 Поджарский Михаил Абрамович - кандидат технических наук, доцент, преподаватель одного из украинских университетов, опубликовал десятки научных и методических работ. Своим главным достижением считает художественные произведения, собранные в десять книг, которые представлены на этом сайте. Книги иллюстрированы автором.
Поджарский Михаил Абрамович - кандидат технических наук, доцент, преподаватель одного из украинских университетов, опубликовал десятки научных и методических работ. Своим главным достижением считает художественные произведения, собранные в десять книг, которые представлены на этом сайте. Книги иллюстрированы автором.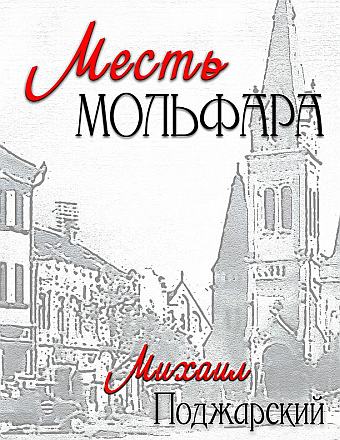
СОДЕРЖАНИЕ
Месть мольфараАмвросий, или Странная история, рассказанная на мосту
После выстрела в сердце
То, что остаётся
Стоянка поезда две минуты
Биссектриса треугольника
Скачать на телефон Купить книгу
Месть мольфара
Было это давно, ещё при австрийцах. Жил в одном галицийском городе некий купец – Алойзий Хмелевский. Торговал чаем, сахаром, да всякой бакалеей. Но богатство своё он нажил не этим.
Пан Алойзий давал деньги в долг под проценты. Хоть это занятие и презираемое в народе, недостатка в желающих занять у него денег не было. Может, потому что сумму мог дать любую и проценты назначал терпимые. Было одно правило: взял деньги у пана Алойзия – верни вовремя и в полном размере. Задержишь хоть на час или принесёшь не всё – жди беды.
Пан Алойзий, ссудив человека деньгами и назначив срок, когда их надо вернуть, далее об этом сроке не напоминал. Не все успевали собрать ко времени нужную сумму, а некоторые просто забывали. Этого-то пану Алойзию было и надо.
Нарушителю пан Алойзий сразу увеличивал процент. И не просто, а так, чтобы процент этот рос день ото дня. Возврата же долга он добивался весьма настойчиво. Ходил за должником по пятам, не гнушался и домой приходить. А не помогало – жаловался в полицию, где у него были покровители, и тогда к должнику приходил уже полицейский. Мольбы и слёзы его не трогали – долг всегда взыскивался сполна. Не деньгами, так имуществом. Не одна семья осталась без последней копейки, а то и была выброшена из своего дома на улицу лишь потому, что её глава или кто-то из домочадцев сглупил, заняв у пана Алойзия некую сумму, которую, как ему казалось, сможет вернуть.
Бывало такое, что должнику нечем было покрыть свой долг – не было ни денег, ни имущества. Такого ждало самое худшее. Пан Алойзий отправлял его в тюрьму.
Каждый раз, когда ему удавалось стребовать деньги с очередного несчастного, был для него чуть ли не праздником. Любил он за стаканом оковитой похвастаться таким же мироедам, как и сам, сколько денег и у кого отобрал. Причём должников своих неизменно награждал самыми уничижительными эпитетами. Хорошо знавшие его люди шёпотом говорили, что жаждал он вовсе не денег. Высшим наслаждением было для него видеть слёзы и отчаяние погубленных им людей.
Стоит ли говорить, что пана Алойзия ненавидели? Ненавидели, но денег занять приходили. Такая уж наша натура – любим мы лёгкие деньги. Одно дело зарабатывать в поте лица, другое – попросить у пана Алойзия. А тот мало кому отказывал…
Он кичился своим богатством и тем, как его заполучил. Из немалого состояния самой большой ценностью для него было то, с чего оно началось. Это была мелкая бронзовая монета достоинством в один геллер. Берёг он её, как зеницу ока. Иногда, по большим праздникам, когда в его доме собирались приятели, он доставал из тайника и рассказывал, как получил её от отца за два яблока, которые украл из соседского сада. То была его первая прибыль.
Как-то приехал в город парень по имени Милош. Влюбился он в местную девушку, пошёл к ней свататься, а её отец дал ему от ворот поворот. Не хочу, говорит, дочь за голодранца отдавать. И чтоб окончательно отвадить непрошеного жениха, сказал ему купить возлюбленной такой-то подарок, тогда он, возможно, передумает. Цена того подарка для Милоша была заоблачной.
Кто из нас в юные годы мог похвалиться осмотрительностью? А тут ещё любовь… Недолго Милош раздумывал. Из дому зазнобы он отправился прямо к пану Алойзию. А на следующий день её отец, проклиная своё легкомыслие, назначил день свадьбы.
Милош родом был с Карпатских гор. Отец его был мольфаром. Так в Карпатах называют местных знахарей. Говорят, что они не просто знахари. Тамошние жители считают их настоящими колдунами. Уважают, но и опасаются.
Узнав из письма, что сын женится, мольфар приехал к нему на квартиру, привёз карпатские гостинцы.
Вот сидят они, обсуждают, как свадьбу устроить, готовятся в дом невесты идти, чтобы родители между собой познакомились, когда открывается дверь и входит пан Алойзий.
Входит и говорит Милошу, что брал тот денег в долг, и как раз сегодня – срок, когда их надо вернуть, разумеется, с процентами. Мольфар спрашивает сына, о каких деньгах идёт речь. Тот смутился, покраснел и рассказал ту историю с подарком. Мольфар насупился: «Что ж ты к лихварю пошёл, такой ты сякой, вместо того, чтоб к родному отцу с этим приехать?». А Милош ему: «Пока в Карпаты, пока назад – уж очень хотелось, чтоб быстро было. Да и стыдно было у отца денег просить». Мольфар: «У родного отца просить стыдно, а у лихваря нет? Отдавать-то чем будешь?». Тут Милош и примолк. На радостях он совсем забыл, что долг надо вернуть.
Пан Алойзий выслушал всё это, осмотрел унылое жильё и говорит: «Вижу я, не сможешь ты мне долг вернуть. Ну что ж, закон для всех одинаков: не можешь расплатиться – дорога тебе на каторгу». Подошёл к двери, открыл её, а там полицейские ждут. Говорит им: «Забирайте этого голодранца! Пусть знает, как долги не возвращать!». Милош в слёзы: «Сжальтесь, пан Алойзий! У меня свадьба через неделю! После свадьбы я всё отдам! Христом Богом клянусь! Отдам!». А пан Алойзий и слушать не хочет: «Уводите его, и покончим с этим!».
Тут мольфар и говорит пану Алойзию: «Никогда я никого не просил. А сейчас прошу тебя, лихваря: повремени с возвратом долга. Я расплачусь с тобой за сына! Ровно через неделю в день свадьбы я отдам тебе денег вдове больше, чем он тебе должен. Копейка в копейку. Если не сдержу своего слова, можешь забрать у меня сверх этого всё, что хочешь. Такова моя просьба».
Пан Алойзий как услышал, сколько он заработать сможет, сразу передумал Милоша в тюрьму забирать. Сказал: «Хорошо. Я выполню твою просьбу так, как ты её сказал. Ровно через неделю, до того, как часы на ратуше пробьют двенадцать ударов, ты в этой комнате передашь мне столько-то денег. Если задержишься хоть на мгновение, или сумма будет неполной, я заберу у тебя сверх неё то, что сам захочу».
Хоть и неразумный сын, но ведь сын… Вернулся мольфар в Карпаты, распродал своё хозяйство, продал дом.
Ровно через неделю Милош, одетый для венчания, и его отец мольфар ждут пана Алойзия. Думают, сейчас расплатятся и в костёл.
На ратуше начинают бить часы, с первым ударом открывается дверь и входит пан Алойзий. И сразу с ним два полицейских. Мольфар вручает ему кошель с деньгами. Пан Алойзий садится за стол и начинает те деньги считать.
В Карпатах люди жили небогато. Потому денег в том кошеле было много, но были они мелкими. Считал пан Алойзий долго. Сосчитал, наконец – не хватает самой мелкой монеты – одного геллера. Стал их пересчитывать. Уже с мольфаром. Пересчитали – всё равно одного геллера не хватает. Пересчитали в третий раз – нет одного геллера!
Пан Алойзий и говорит: «Помнишь, как мы договаривались? Если просрочишь, или сумма будет неполной, я заберу сверх неё то, что захочу. В срок ты уложился. Но есть недостача. Всё своё ты продал, ничего у тебя не осталось. Поэтому я заберу у тебя сына».
Махнул он рукой полицейским, те надели на Милоша кандалы и увели его прямо в подвенечном наряде. А кошель с деньгами себе за пазуху сунул.
Зачем пан Алойзий это сделал: чтоб в который раз насладиться чужими страданиями, или отец невесты заплатил, чтоб тот избавил его от невыгодного жениха – то неизвестно.
Когда за Милошем закрылась дверь, мольфар сказал Алойзию: «Впервые я к кому-то обратился с просьбой. Я просил тебя не забирать у меня единственного сына. Ты же его забрал. И за что? За самую мелкую монету – за один геллер! Так слушай мои слова! С этого дня остерегайся просить. Никогда ни у кого ничего не проси. Ибо, что попросишь, то и получишь!».
Пан Алойзий только рассмеялся ему в лицо: «Я – просить? Я никогда не прошу! У меня просят!».
Про всё это он быстро забыл – случай был лишь одним из многих.
Шли годы…
Однажды с паном Алойзием случилось то, что в своё время случается с каждым. Он понял, что стареет, что впереди хвори и немощь, и нужен кто-то, на чьё плечо можно опереться, и кому потом передать богатство. Ему захотелось иметь сына. Никогда не хотелось – считал, что дети – это ненужные расходы. А теперь захотелось. И понимал он, что мечта эта вряд ли осуществима – его жена, женщина тихая и забитая, уже в возрасте и родить не сможет.
Как-то, будучи в задумчивости, шёл он мимо костёла. Заглянул в открытые двери, увидел образы на стенах, горящие свечи, и сердце его ёкнуло. Он не был здесь с юных лет, а тут взял, да зашёл.
Зашёл, зажёг свечу, встал на колени перед святым ликом и стал просить у Господа, чтобы тот послал ему сына, и чтобы тот всегда был с ним и никогда не покинул его дом.
Прошло время, и жена сообщила пану Алойзию, что беременна, и что от этой беременность она хочет избавиться, как уже делала раньше. Но пан Алойзий приказал ей ребёнка оставить. Так она и поступила, не решившись ослушаться супруга.
В положенный срок она родила вполне здорового мальчика. А сама в родах умерла.
Пан Алойзий в ребёнке души не чаял. Тот рос, окружённый заботой и богатством. Отец мечтал вырастить из него такого же купца, как и сам, а потом передать своё дело. Но мальчику купеческое дело было неинтересно. С малых лет он любил музыку. Отец купил ему фортепиано, и он дни напролёт проводил за клавишами. Знающие люди, слушая его игру, только дивились, какие волшебные звуки выходили из-под пальцев мальчика. Говорили, что ему надо учиться, и прочили будущее великого музыканта.
Когда мальчик вырос и превратился в юношу, то стал просить отца отпустить его учиться в Вену, говоря, что музыка – это единственный смысл его существования. Пан Алойзий ни в какую не соглашался. Он хотел, чтобы сын научился делать деньги, а музицирование считал лишь послеобеденным развлечением. Но когда знающие люди объяснили, что хороший музыкант – а сын его имел все шансы стать таким – может зарабатывать большие деньги и даже больше, чем удачливый купец, он, скрепя сердце, сдался.
Накануне отъезда сына пан Алойзий устроил ему пышные проводы. Он накрыл богатый стол, созвал гостей. Когда все речи были сказаны, все здравицы произнесены, настала очередь виновнику торжества выступить с прощальным словом. С бокалом в руке тот поднялся со своего места, и только начал говорить, как вдруг глаза его закатились, бокал выпал из руки, он захрипел и упал.
Три дня и три ночи юноша метался в горячке. Врачи, пытавшиеся облегчить его состояние, только разводили руками, говоря встревоженному отцу, что эта хворь им неведома. На четвёртый день жар спал, и больной пришёл в себя. Выяснилось, что он не чувствует своего тела ниже поясницы и потому ни сидеть, ни ходить не сможет. Врачи не могли объяснить, почему это произошло, и когда больной встанет. Сказали только, что если горячка вернётся, то вряд ли он выживет. А случиться это может в любой момент.
Вот тут-то пан Алойзий и вспомнил про мольфара. Вспомнил, что тот запретил ему просить у кого-либо. А он попросил. И не у кого-нибудь, а у самого Господа! И вспомнил слова: «Что попросишь, то и получишь». Он попросил, чтобы сын его всегда был при нём и никогда не покинул его дом. Вот Господь и отнял у парня ноги.
То были не просто слава! То было проклятие!
Пан Алойзий отправился в Карпаты. Долго он искал мольфара. Нашёл его в убогой хижине, стоявшей посреди лесной чащобы.
Взойдя на порог, пан Алойзий спросил: «Помнишь меня?». «Как же мне забыть того, кто сына моего сгубил за мелкую монету?» – ответил мольфар.
Пан Алойзий бросил к его ногам огромный кошель с деньгами и сказал: «Возьми, это тебе. Я дам тебе ещё столько или сколько пожелаешь, если ты, колдун, с моего сына своё проклятие снимешь», – «Знаю я, что с твоим сыном стало. Только не моё это проклятие, а твоё, – усмехнулся в ответ мольфар. – Своей алчностью и чванством ты его проклял. А деньги твои забери – не нужны они мне. Когда мой Милош сгинул на каторге, дал я обет жить в бедности», – «Что же мне делать? Как сына спасти? – взмолился пан Алойзий. – Дай же ему хоть какой-то шанс!» – «А моему сыну ты дал шанс? Ты даже разговаривать не захотел!».
Подумал мольфар, а потом и говорит: «Если ты уйдёшь отсюда ни с чем, значит, я столь же бесчеловечен, как и ты. Дам я тебе шанс, о котором ты просишь. Спасти сына сможешь только ты сам. Отправляйся домой. Там сними себя богатые одежды, оденься в рубище и раздай бедным людям всё своё состояние. Не продай, а раздай! Даром! Всё до копейки! Если ты сделаешь это, твой сын встанет на ноги и проживёт долгую жизнь. Но если ровно через неделю часы на ратуше пробьют двенадцать ударов, а при тебе останется хоть маленькая толика твоего богатства, твой сын умрёт!».
Услышав эти слова, пан Алойзий рассвирепел. «Я приехал сына спасти, а ты, чёртово отродье, разорить меня вздумал! Всё по крупицам нажитое отобрать у меня! Не выйдет!!!» – вскричал он и схватил мольфара за горло. Долго душил он старика. Когда же всё было сделано, и тело, обмякнув, выпало из его рук, пришла к нему мысль: разорить кого-то хотят, чтобы богатство его себе забрать, зачем же иначе? А мольфар дал обет бедности! Значит, богатство ему ни к чему! Выходит, правду он сказал! Да и то, что с сыном случилось, мольфар, по сути, предсказал!
Страшно стало пану Алойзию. Так страшно ему ещё никогда не было. Бросился он прочь от мёртвого тела. Как через дремучий лес дошёл до человеческого жилья, он не помнил.
Вернулся он в город. Первому же нищему отдал свою одежду и облачился в его лохмотья. Прибежав домой, стал раздавать деньги. Богатство его было огромным, потому, чтоб всё раздать, потребовалось несколько дней.
И вот с того разговора с мольфаром прошла неделя. Пан Алойзий раздал всё. Одетый в рубище, стоит он в пустом доме у постели больного сына.
Полдень. Часы на ратуше бьют первый раз. Мысли роятся в его голове. Он вспоминает свою жизнь, как разбогател, как ежедневно, еженощно корпел над умножением богатства. Вспоминает людей, которых погубил, вырывая изо рта последний кусок. Вспоминает и то, как в считанные дни раздал всё нажитое, чтобы снять с сына проклятие убитого им мольфара.
Второй удар. В руке у пана Алойзия всё, что у него осталось – монета в один геллер. Та самая, с которой всё началось. Он должен решить отдать ли её тому нищему, что стоит сейчас под окном и глядит на него, ожидая подачки, или оставить себе.
Третий удар. Вдруг страшная мысль приходит к нему. Да было ли проклятие?! Действительно ли сына разбил паралич из-за того, что мольфар проклял? А вдруг «что попросишь, то получишь» – всего лишь пустые слова, а хитрый старик просто использовал его отчаяние, чтобы внушить ему дикую идею раздать голодранцем всё нажитое?
Часы бьют – у пана Алойзия перед глазами красный туман. Он нищий! Он – нищий! Нищий!!! Испугался болтовни какой-то деревенщины и раздал всё! Всё!!! И теперь то быдло, которому он раздал, богаче его! Как он мог поверить?!! С чем он остался? С одним геллером! И его должен отдать! Тот нищий стоит и неотрывно смотрит на его окно! Ждёт! Ждёт, чтобы отобрать последнее!
Последнее?! Почему последнее? Это не последнее! Когда-то с этой монеты началось его богатство. Когда-то она принесла ему удачу. Кто сказал, что этого нельзя повторить? Вдруг с этой монетой он снова разбогатеет? Почему нет? Он снова станет богатым!
Десятый удар. Его взгляд падает на стоящего под окном нищего. И тут он понимает – это совсем не нищий! Это мольфар пришёл, стоит под его окном, жадно глядя мёртвыми глазами, и ждёт ту самую монету! Он кричит: «Нет! Ты не отберёшь её у меня! Ты не сможешь меня разорить! Я её не отдам!!!».
Одиннадцатый удар. Мольфар уже не под окном, он уже в доме, рядом с паном Алойзием. Протягивает руки: «Отдай её! Отдай! Моего сына погубил, не губи и своего за мелкую монету!». Тот кричит, полный ярости: «Уходи! Убирайся прочь, чёртово отродье! Ничего я тебе не дам!!!». И что есть силы отталкивает от себя призрака.
В то же мгновение часы ударили двенадцатый раз. Сын прохрипел: «Отец, спаси… я умираю…», и дыхание его прекратилось. Мольфар же пропал.
Что произошло потом – непонятно. Только дом тот сгорел дотла вместе с его хозяевами.
Пепелище долго пустовало. Разные люди пытались его застроить, но безуспешно. Всегда случалось что-то, из-за чего строительство прекращали. То землекопа насмерть присыплет, то кирпичи кому-нибудь на голову упадут.
Однажды решили возвести там церковь. Собрались люди, пришёл священник, чтобы землю освятить. Только начал читать молитву, вдруг откуда ни возьмись появилась собака. Огромная чёрная страшная. Раньше здесь её не видели. Подошла она к священнику, встала против него, ощерила огромные клыки и принялась грозно рычать. Всем видом показывала: уходи, мол, нечего тебе тут делать! Был там полицейский, он со страху выхватил пистолет и застрелил её. Тут же появились ещё две таких точно собаки, схватили труп в пасти и понесли куда-то. Священник, увидев то, перекрестился, подхватил облачение и бегом с того места. Так церковь и не построили.
Место это стало пустырём. Росли там лишь дикие травы, причём такие, что растут в Карпатах и больше нигде. Кто знает, откуда они там…
– – –
Недавно решил один человек не из местных построить там ресторан. Что место проклятое, ему говорили. Да только он слушать не стал.
Окружили пустырь высоким забором, вырыли котлован, выгнали стены, покрыли крышей. Может, и произошло что при строительстве, да про то никто не знает – забор всё скрыл.
Ресторан открыли. Была громкая гулянка. Много богатых людей приехало.
Случилось то, когда гулянка уже закончилась. В зале оставались последние посетители. Музыканты ушли, официанты убирали со столов.
Вдруг зазвучала музыка. Тихая нежная мелодия поплыла по залу. Разговоры смолкли, стих звон посуды. Все замерли. Взгляды устремились к эстраде.
Там за роялем сидел юноша. Он был бледен, глаза его глубоко запали. Его одежда была давно забытого покроя. Пальцы, которыми он легко касался клавиш, были тонкими, словно состоящими из одних костей.
Юноша играл, а все слушали, затаив дыхание, забыв обо всём. Никто не заметил, что свет стал меркнуть, потянуло холодом.
Хозяин ресторана, а звали его Дамиан Раховский, был единственным, кто не попал под действие этих чар. Он подошёл к юноше и спросил, кто тот и что тут делает.
Ни на кого не глядя и не прекращая игры, юноша произнёс тихим голосом:
– Сегодня сто лет, как мои пальцы в последний раз касались клавиш. И всё же я играю… – Затем, подняв голову, он громко сказал: – Я играю! Отец! Ты слышишь меня? Ты слышишь мою игру?
В его голосе было такая печаль, такая тоска, что у всех, кто слышал, мороз пошёл по коже.
Ровно в полночь юноша вдруг оборвал мелодию и закрыл крышку рояля. Повернув лицо к Дамиану и глянув на него чёрными провалами глаз, он сказал:
– Мой отец придёт к тебе! Жди.
Свет вспыхнул, как раньше. Все невольно зажмурились. Когда они открыли глаза, за роялем никого не было.
Первое, что сделал Дамиан, придя домой, – написал в Фейсбуке: «Вы, что, дураки, не можете Хэллоуина дождаться? Я не испугался!». Он решил, что друзья хотели его разыграть.
Утром случилось такое, из-за чего он напрочь забыл о загадочном пианисте.
Приехав в ресторан, он застал шеф-повара в бешенстве – все продукты, привезённые на кухню, оказались испорченными. В мясе кишели черви, рыба смердела, овощи были побиты гнилью. Закупщик клялся, что купил самое свежее, как всё это могло так быстро испортиться, он не мог объяснить. Ситуация была скверной – полчаса до открытия, а кухня не работает. Дамиан сам сел за руль фургона, объехал поставщиков и привёз всё необходимое.
Только он в своём кабинете уселся за бумаги – новая напасть. Вспыхнуло масло на сковороде – один из поваров получил ожоги. Вызвали «скорую». За ней приехала полиция, потом – пожарный инспектор и человек из страховой компании. Часа четыре он просидел с ними в кабинете, писали бумаги.
И тут снова неприятность – в зале драка. Посетитель решил, что официант его обсчитал и ударил его. Тот ответил, сломал посетителю нос. Повезли того в больницу. Чудом удалось обойтись без полиции.
Целый день до самого закрытия что-то случалось. Ресторан работал, но его хозяин до самой ночи не мог присесть ни на минуту.
После закрытия, когда персонал ушёл, Дамиан почувствовал, что ехать домой у него нет сил. Решил заночевать в кабинете.
Перед тем, как лечь, подсчитал выручку. Испорченные продукты, пожар на кухне, сломанный нос – день принёс одни расходы.
Он лёг на диван, укрылся пледом, закрыл глаза. Думал, уснёт зразу, но нет, усталость была такая, что сон не шёл. Пришлось встать и принять таблетку из тех, что с недавнего времени всегда были при нём.
… он стоял посреди дремучего леса по пояс в зарослях папоротника. Вокруг были огромные сосны, вершины которых уходили в белые облака. Пахло хвоей и чем-то сладковатым – какими-то травами. Пели птицы. Насекомое, с жужжанием налетев, ударилось ему в щеку, отскочило и полетело дальше.
Он сделал несколько шагов, и из-за древесных стволов показалась небольшая поляна. Посреди неё стояла бревенчатая хижина, стены которой по самую крышу заросли диким виноградом. В окнах не было стёкол, дверь покосилась.
Внутри был сумрак – свет с трудом пробивался сквозь заросшие плющом и затянутые паутиной окна. Комната была лишь одна. В дальнем её конце находилась печь, посреди – стоял дощатый стол. У стола на лавке было что-то похожее на кучу тряпья. Покрытая пылью и паутиной утварь была аккуратно расставлена вдоль стен и на полках. Травяной запах, что разносился по лесу, здесь был во много раз сильнее.
– Проходи, добрый человек, не бойся, – раздалось из того, что с первого взгляда показалось кучей тряпья. Дамиан переступил порог и по скрипучим половицам подошёл к столу. Из-под его ног во все стороны разбегались какие-то мелкие зверушки.
– Садись рядом, добрый человек, – произнёс тот же голос.
Дамиан сел на лавку, отметив про себя, что не испытывает страха.
Теперь, когда глаза привыкли к сумраку, стало видно, что обладатель голоса – древний старик. Высохшая, словно из папье-маше кожа плотно облегала его череп. Глаза были закрыты. В ушной раковине паук сплёл свою сеть.
– Не бойся меня, – повторил хозяин хижины. Трудно было понять, как он говорит – его губы не шевелились. – Я мёртв уже сто лет и не причиню вреда. Ты видишь лишь моё тело, которое сохранилось нетленным благодаря отварам особых трав, которые употреблял всю жизнь. Не меня тебе надо бояться – Его.
Он замолчал, словно к чему-то прислушиваясь. Было тихо – в лесу смолкли птицы. Вскоре заговорил снова:
– Он уже близко. Идёт, чтобы стребовать долг. У тебя его монета. Мелкая монета в один геллер. Ты о ней не знаешь, но она у тебя. Найди её и избавься. Исчезнет монета, исчезнет и Он. И главное: ничего у него не проси. Что попросишь, то и получишь…
Вдруг в хижине потемнело.
– Он уже здесь! – сказал старик. – Помни, чему я тебя научил!
Раздался громкий стук, и грубый голос за дверью произнёс:
– Я пришёл, мольфар! Я пришёл, чёртово отродье! Я должен получить долг!
Стук был всё громче и громче.
Дамиан проснулся от громкого стука. Было утро. Он сел на кровати. В голове шумело, промокшая от пота рубашка прилипла к телу. «Надо прекращать принимать те таблетки, – подумал он. – От них галлюцинации».
В дверь снова постучали. Он открыл. На пороге администратор: «У нас проблема!».
Огромный мусоровоз врезался в столб и опрокинулся, вывалив кучу мусора прямо в двери ресторана. До позднего вечера его ставили на колёса и убрали мусор. В ресторане за весь день не было ни одного посетителя.
Попасть домой опять не получилось. На этот раз Дамиан решил обойтись без таблетки. Пролежав порядочно, задремал.
Он проснулся от громкого стука. Встал с дивана, открыл дверь. На пороге стоял грузный незнакомец. Не ожидая приглашения, он вошёл в кабинет и, пройдя мимо Дамиана, уселся в его кресло за письменный стол.
Усевшись, гость без обиняков заявил:
– Я пришёл за долгом.
– Кто вы? Я вам ничего не должен! – ответил Дамиан, стоя перед ним, словно посетитель. – Убирайтесь!
Его охватило странное чувство: хоть он в своём кабинете, но одновременно находится в той лесной хижине.
– Должен! Ты мне много должен!
– Кто вы такой?!
Лица гостя он разглядеть не мог – оно было в тени настольной лампы. Зато руки в чем-то тёмном, похожем на сажу, были хорошо видны. От него исходил сильный запах гари. Одежда его была странной – сейчас такое не носят.
– Проклятый мольфар придумал, как отнять её у меня, – вместо ответа сказал гость. – Он сжёг меня живьём. Тело моё сгорело, но она уцелела. Она здесь, я чувствую её. Сто лет мольфар оберегал это место, отгонял от него людей. Но ты не побоялся, построил свой трактир на моей земле. Теперь будешь мне платить. Ты уже начал – вчера и сегодня заплатил много. Она снова приносит мне богатство!
– Да кто вы такой, чёрт возьми! – вскричал Дамиан.
– Чёрт как раз меня и не взял… – ответил незнакомец. В его голосе слышалась презрительная насмешка. – Я хозяин этого места.
Дамиан нажал пальцем на глазное яблоко. Незнакомец в его глазах раздвоился. Это не галлюцинация! Это наяву!
Он выхватил из-за шкафа помповое ружьё, передёрнул затвор и навёл на гостя.
– Вон отсюда! Убирайтесь! – заорал он.
– Ты никак собрался меня убить?! – расхохотался тот.
Дамиан нажал на спуск. Грохнул выстрел. Когда рассеялся дым и осела пыль штукатурки, он увидел разорванную в клочья спинку кресла и дыру в стене за ней. Незнакомца, как и не было.
Отбросив ружьё, Дамиан сел на диван. Ноги тряслись, уши заложило от выстрела. Посидев немного, встал, достал из шкафа бутылку коньяка, отвинтил пробку, и сделал большой глоток из горла. После третьего глотка в голове стало проясняться.
Говорили ему, что место проклятое! Говорили!
Да что ж это за место такое?
Включил компьютер, вошёл в интернет, нашёл городской сайт, раздел «Наша история». План города от 1910 года. Нашёл улицу. Тут был дом. Надпись: «Дом Хмелевского». Ещё один план города – от 1913 года. Дома нет. Поиск по фамилии: «Хмелевский Алойзий, 1850–1912, почётный член городской думы, купец первой гильдии». На фотографии грузный мужчина, надменный взгляд, презрительно поджатые губы. И одежда, как на незнакомце.
Факсимиле «Городского вестника» за июль 1912. На первой полосе: «Загадочный пожар в доме Хмелевского». «Вчера при загадочных обстоятельствах дотла сгорел дом известного в городе купца Алойзия Хмелевского. На вопросы о причинах трагедии пожарные и полицейские чины предпочитают не отвечать. Соседи же уверены, что причиной пожара был сам хозяин дома, который, впав в буйное помешательство из-за неизлечимой болезни единственного сына, сначала раздал налево и направо всё своё состояние, чем вызвал небывалый ажиотаж, а затем, запершись вдвоём с сыном в доме, поджёг его. Пожар был такой силы, что останков обоих несчастных найдено не было. Похорон не будет, так как хоронить нечего».
Здесь призрак… Бред! Какие призраки? Двадцать первый век!
А если правда?
Что то был за старик в его сне? Или то был не сон? Мольфар? Колдун! К тому же мёртвый. Не легче…
Он допил коньяк.
Призрак? Хорошо, пусть призрак! Наплевать на материализм!
Если верить мольфару, призрака притягивает монета. Она не сгорела в пожаре, значит где-то здесь, под фундаментом. Так просто её не найдёшь – надо ресторан сносить.
И посоветоваться не с кем – засмеют…
Да почему же не с кем?
Он бегом прибежал в зал и сел за рояль. Стал играть ноктюрн ми бемоль мажор Шопена, который помнил ещё с музыкальной школы. Вскоре свет ламп померк, стало холодно. За спиной раздалось:
– Эту музыку я бы играл не так.
Дамиан уступил место за роялем.
Юноша играл великолепно!
– Что с тобой произошло? – спросил Дамиан, когда тот прекратил игру.
После долгого молчания тот сказал:
– Мольфар отца проклял.
– Ты всегда будешь таким?
– Пока отец по своей воле не откажется от богатства, не отдаст монету.
– Мольфару?
– Кому угодно. Хоть и тебе.
– Как его заставить?
– Спроси об этом у себя.
Лампы ярко вспыхнули, Дамиан зажмурился. Когда он открыл глаза, юноши не было.
Если верить пианисту, надо заставить призрака добровольно отказаться от богатства. Как? Мёртвого не купишь, не уговоришь, не запугаешь…
Быстро, пока не видны убытки, продать ресторан! Сегодня же выставить на торги!
Нет… Место проклятое – здешние не купят. А пока найдётся покупатель со стороны, всякое случится – призрак попался изобретательный.
Но мольфар про монету другое говорил... Избавиться от неё надо.
Чёртов призрак! Живой бы просто потребовал свой процент, и он бы ему платил. Экая невидаль – рэкет! А эта нежить забирает всё!
Всё? А что всё? Что ему, собственно, надо?
Дамиан вернулся в кабинет. Призрак сидел в его кресле.
– Чего вам надо? – спросил Дамиан с ходу.
– Известно чего. Того же, чего и тебе – богатства, – ответил призрак с ухмылкой.
– Деньги нужны живым. Вам-то они зачем?
– Какое ж это богатство – деньги? Ассигнациями разве можно насытиться или шубу из них сшить?
– Что ж такое богатство, как не деньги?
– Богатство – это то, что нужно всем, и у тебя его много, а у других – нет.
– Вы же о деньгах говорите!
– Нет, не о них. Подумай: чего я тебя лишил сегодня?
– Денег! У меня был большой убыток.
– Не в деньгах тут дело. Вторую ночь не дома ночуешь – здесь. Почему?
– Вымотался за день, устал.
– Вот-вот…
– Хотите сказать, что вы богатеете от чужих несчастий?
– Счастье это и есть то, что нужно всем. Ты богатый, когда у тебя его много, а у других его нет.
– А деньги?
– Какое без них счастье?
– А если все будут счастливы?
– Такое бывало когда? Не бывало. Знаешь почему? Потому что, если ты не можешь над другими возвыситься, то какое ж то счастье? Вот и выходит, что настоящее богатство это, когда счастлив только ты.
– Странная у вас логика… Вы были счастливы? При жизни…
– Бывало со мной такое. Частенько бывало. Как долг с кого стребую, сразу хорошо на душе. Если бы чёртов мольфар не проклял…
– От меня чего хотите?
– А вот заберу всё, что у тебя есть… Сто лет я этого ждал, рядом с монетой таился.
– Ну заберёте, а дальше что? Люди и так это место проклятым считают, а если что с моим рестораном случится – здесь тысячу лет ни одна собака не поселится. А вы тысячу лет будете около той монеты впустую болтаться, как муха на верёвочке.
– Тысяча лет, десять тысяч лет… Мне ни есть, ни спать не надо. И тела у меня нет, которое будет стариться. Что мне время? Рано или поздно всё равно здесь кто-то появится.
– И сын ваш будет десять тысяч лет без музыки мучиться.
– Сын, говоришь? Он тоже моё богатство.
– Вот как! Вы наслаждаетесь и его страданиями? Понятно, почему вас мольфар проклял!
– А ты не радуйся! Он через меня и тебя проклял.
– Может быть, может быть… Посмотрим…
– Не надейся! Я живой был – сколько народу сгубил. А на мёртвого меня ты никак управы не найдёшь.
– Да, пожалуй, вы правы… Куда мне с призраком тягаться…
– Ну вот, сообразил! Молодец!
– Вот только сына вашего уж очень жалко…
– Да чего тебе его жалеть?
– Он пианист замечательный. Жалко, что такой талант без вести сгинул.
– И что мне с того таланта? Какая прибыль?
– А если я вас попрошу кое о чём?
– Попросить? Ну попроси. Люблю, когда просят.
– Пусть он поиграет для моих гостей три вечера. А потом делайте, что хотите. Хоть ресторан сожгите.
– Ха! Не думал я, что от его пиликанья польза будет. А с тобой, гляжу, оно мне большое богатство принесёт. Ну что ж, пусть поиграет. Будь по-твоему. Что попросил, то и получишь.
– – –
Следующий день не принёс никаких сюрпризов. Продукты оставались свежими, никто не обжёгся, не подрался. Даже мусорная вонь, которую вчера безуспешно пытались вывести, выветрилась без следа.
К полудню стали заходить первые посетители. К вечеру зал был заполнен уже на треть.
Юноша появился поздно вечером. Как в прошлый раз, померкли лампы, стало холодно. Он играл Шопена. Он играл так, что все забыли о еде, слушая волшебные звуки. Играл он долго. Как в прошлый раз, ровно в полночь вдруг вспыхнул свет, и юноша странным образом исчез.
На следующий день о загадочном пианисте уже говорили в городе. К Дамиану приставали с расспросами. Он отвечал уклончиво, разжигая интригу. К вечеру ресторан был полон. Многие пришли не столько послушать музыку, сколько разгадать загадку появления юноши. Как ни старались, это им не удалось. Юноша появился, как и накануне, неожиданно, будто ниоткуда. На этот раз он играл Листа. В зале не было ни шороха. Когда в полночь игра прекратилась, он взорвался аплодисментами, которые были адресованы пустому месту за роялем.
На третий день город гудел. «Загадочный музыкант», «Пианист-фокусник», «Великий мастер у нас городе инкогнито!» – газеты пестрели самыми невообразимыми заголовками. Дамиан чуть ли не кулаками отбивался от журналистов. Все места в ресторане были заказаны заранее, а заказы всё поступали и поступали. От желающих воочию увидеть сенсацию не было отбоя. Пришлось снять с петель двери, вынуть витринные стёкла и поставить столики под навесом на тротуаре, чтобы как можно больше желающих могли насладиться волшебной игрой.
Несмотря на прогноз, небо хмурилось, дул ветер. Но ещё засветло все столики в зале и на улице были заняты. Скучая в ожидании, гости много ели и пили. Официанты сбивались с ног. С наступлением сумерек в предвкушении ожидаемого события оживление возросло. Никто не придал значения тому, что темнота наступила не от того, что зашло солнце, а от нависших над городом тяжёлых грозовых туч.
Внезапно подул холодный ветер. По навесу стали барабанить холодные капли.
И тут зазвучала музыка. Юноша, появления которого опять никто не заметил, играл Бетховена. Шум в зале тут же стих. Игра была столь великолепна, что даже те, кто ничего не понимали в музыке и явились сюда лишь ради сенсации, примолкли и стали слушать. Юноша играл и играл, не делая пауз между произведениями, не давая слушателям перевести дух. Те сидели замерев, не чувствуя порывов ветра, не слыша шума дождя. Издали доносились раскаты грома, но на них тоже не обращали внимания.
Когда юноша стал играть «Бурю», гром стал совсем близким. Казалось, в его раскатах появился ритм, словно сама гроза взялась аккомпанировать пианисту.
Когда пришла очередь allegretto, стало казаться, что не стоявший на эстраде рояль, а именно гроза и была тем инструментом, на котором играл юноша, в котором капли дождя отвечали за высокие ноты, а раскаты грома были басами.
Ближе к финалу молнии были всё ярче, гром всё громче. Когда прозвучала последняя нота, блеснула ярчайшая вспышка, раздался оглушительный грохот. Молния ударила прямо в ресторан. Запылал огонь – вспыхнула обстановка. Посетители бросились наружу. Благо, двери и окна были сняты заранее, и ничто не помешало всем выбраться из пылающего здания.
Приехавшие вскоре пожарные ничего не смогли поделать – огонь был такой силы, что здание выгорело полностью. От жара даже разрушились бетонные стены.
К рассвету, от ресторана осталась лишь груда обугленных бетонных обломков, среди которых блестели лужицы плавленого стекла.
В полдень это место было вновь обнесено забором, и на нём работали экскаваторы. Самосвалы один за другим вывозили строительный мусор, который попадал в их кузова, пройдя через какие-то странные грохочущие машины.
К вечеру весь мусор был вывезен и экскаваторы теперь рыли котлован. К полуночи он был вырыт. Самосвалы уехали, экскаваторы и те странные машины остановились.
Все ушли, внутри ограды остался один Дамиан. Он сидел на стуле, чудом уцелевшем на пожаре, и с интересом разглядывал звёздное небо.
В полночь появился тот, кого он ждал.
– Вот я всё у тебя и забрал. А ты не верил, – самодовольно ухмыляясь сказал пан Алойзий. – Что ты у меня попросил, то и получил.
Дамиан не ответил. Улыбаясь, он продолжал смотреть на звёзды.
– Чему радуешься? Тому, что нищим стал? – спросил призрак.
– За последние сто лет многое изменилось, пан Хмелевский, – сказал Дамиан.
– Хоть сто лет, хоть десять тысяч. Люди не меняются.
– Люди – нет. Но мир меняется…
– Хочешь сказать, что за сто лет люди стали радоваться, когда у них последнее забирают?
– Вы у меня ничего не отобрали, пан Хмелевский!
– Ничего? Вчера здесь твой трактир стоял. Теперь тут яма. И ты говоришь, я ничего не забрал!
– Ничего, пан Хмелевский, ничегошеньки!
– Ага! Понятно! Я не только трактир, я и ум последний у тебя забрал!
– Да нет, пан Хмелевский, ум-то как раз при мне остался.
– Выходит, за сто лет малоумных стали мудрецами считать!
Дамиан встал со стула и повернул вентили у стоявших рядом баллонов.
– Я не только ничего не потерял, пан Хмелевский. Благодаря вашей жадности я заработал. И даже больше, чем стоил уничтоженный вами ресторан.
– Так не бывает! Врёшь! – встревожился призрак.
– Бывает, пан Хмелевский, бывает. Это сто лет назад такого не было. А в наше время такое возможно, – спокойно сказал Дамиан
– Поясни немедля, о чём речь!
Дамиан достал из кармана золотую зажигалку.
– Эту зажигалку мне подарил отец, когда я поступил на инженерный факультет. С тех пор она всегда со мной. Это мой талисман, – он откинул крышку и крутанул колёсико. Глядя на пламя, продолжил: – Пояснить вам? Пожалуйста! Страховка! Когда ресторан был построен, я застраховал его от стихийного бедствия. А потом попросил у вас то, что вы мне и дали. Двести свидетелей подтвердили, что ресторан сгорел именно от удара молнии, то есть от стихийного бедствия. И страховая кампания скоро выплатит мне круглую сумму.
Щёлкнув пальцем, Дамиан закрыл зажигалку.
Призрак, помолчав, сказал:
– Ну что ж, это хорошо. Будет что у тебя забрать в следующий раз.
– Не будет следующего раза, пан Хмелевский, не будет, – ответил Дамиан. Он поднял с земли предмет, присоединённый к баллонам двумя шлангами. – Знаете, что это такое? Не знаете. Сто лет назад вы такое вряд ли видели. Это ацетиленовая горелка.
Дамиан покрутил на горелке краники и, щёлкнув зажигалкой, поднёс к ней огонь. Раздался хлопок, вспыхнуло пламя. Ещё покрутив колёсики, Дамиан сделал так, чтобы оно стало коротким и ярко-голубым.
– Собираешься меня сжечь? – спросил призрак. На этот раз в его голосе не было обычной издёвки.
– Температура этого пламени три тысячи градусов, – сказал Дамиан, проигнорировав вопрос. – А чтобы расплавить бронзу достаточно одной тысячи.
Он достал из кармана маленький круглый предмет и положил его на лежавший рядом обломок бетона.
– Не смей! Она моя! – закричал пан Алойзий не своим голосом.
– Знаю, – спокойно сказал Дамиан. – Страховка была моей первой целью. С вашей помощью я снёс ресторан и просеял грунт под ним. Так я достиг своей второй цели – нашёл вашу монету.
– Не трожь её! Не смей! – кричал призрак.
– Прощайте, пан Хмелевский! Интересно было иметь с вами дело. Сыну привет передайте, – сказал Дамиан и поднёс горелку к монете.
Через пару секунд счастливая монета пана Алойзия Хмелевского превратилась в лужицу расплавленного металла.
А сам он исчез.
Днепр, сентябрь 2016
Скачать на телефон Купить книгуАмвросий, или Странная история, рассказанная на мосту

– Разрешите постоять рядом с вами, молодой человек. Ну что вы! Не надо на меня кричать. Не подходить, а то прыгните? Ну разумеется! Нисколько не сомневаюсь в вашей решимости. Вижу, вы человек взрослый, серьёзный. Если уж что решили… Да и место выбрали правильное. Тут лететь метров двадцать. Так что… наверняка. Если сразу о воду не убьётесь, то – она сейчас холодная, градуса два, в такой не выжить – побарахтаетесь эдак с минуту и камнем на дно. Никто не спасёт. И место выбрали удачное, и способ. Правда, говорят, смерть от утопления весьма мучительна. Зато надёжно. А что до мучений… Что там каких-то пара минут по сравнению со всей жизнью!
Не смотрите на меня так, молодой человек. Я не отговаривать вас пришёл. Решили свести счёты – сводите. Дело ваше. Я, знаете ли, сторонник того, что человек сам должен быть хозяином своей жизни. Должно быть у него право и жить, как ему хочется, и умереть, когда сочтёт нужным. Так что, выбор ваш я уважаю. Помогать, толкать, там, или ещё чего, разумеется, не буду. Но и отговаривать не стану.
Вас как звать-то? Имя у вас какое? Зачем оно мне? Я скажу зачем. Вот вы сейчас прыгните, а я постою, подожду, когда круги разойдутся, вода над вами утихнет, и в церковь пойду – вон, видите купола сверкают? – помолюсь там за вас. Свечку поставлю. Хоть говорят, что самоубийство грех и совершившим такое нет прощения, да только я считаю, что всяк человек прощения заслуживает после смерти. Хотя бы за то, что жил в этом мире.
Так как вас величать, простите, не расслышал? Максимом? Матушка вас, небось, Максимушкой звала? Я угадал? Угадал… Древнее имя, ещё в Риме придумали. Означает «величайший». Угадали с именем ваши матушка с батюшкой. Согласитесь, есть некое величие в том, чтобы вот так, запросто, самому жизнь свою прервать.
Может, хотите знать, как зовут меня? Амвросием меня кличут. Имя греческое. Помните, что греческие боги на своём Олимпе предпочитали вкушать? Амброзию. Напиток такой. Он им, богам, сохранял вечную молодость. От него и имя.
Не знаю, повлияло ли оно на мою судьбу… Не знаю… Да только, что бы со мной ни случалось – а случалось много чего – ни разу не подходил я к той черте, на которой сейчас вы стоите, молодой человек.
Смею предположить, Максимушка, что вы сейчас не торопитесь. Хоть решение и принято, но туда, куда вы стремитесь, обычно не торопятся. Да и к чему спешка? Ну побудете вы со мной рядом пару минут… Что от того измениться? Мост ниже станет, или вся вода из реки в море убежит? Поговорим мы, выслушаете вы меня, а там и прыгайте себе. А я, значит, как и обещал, в церковь пойду, по молюсь за вас… За упокой души раба божьего Максима… Помолюсь, вот, и дальше жить стану. Ведь оно как? Жизнь она такая – вы вот умрёте сейчас, а она продолжаться будет.
Да нет, я хоть и старше вас раза в три, но воспитывать не стану. И жалеть не буду, уж не обессудьте. Меня не жалели в этой жизни, и я никого жалеть не собираюсь.
Расскажу я вам одну историю. Я расскажу, а вы меня выслушаете. А как закончу, так и прыгайте себе на здоровье, раз уж так решили.
Зачем мне вам её рассказывать? Дал я когда-то себе слово, что никто о ней не узнает, никому я её рассказывать не стану. Почему? Уж очень она странная. Слово-то я дал… Но – такая уж, видно, наша человеческая природа – очень трудно в себе держать. Хочется поделиться. Сколько лет прошло… Все эти годы не находил я себе покоя. Так и подмывало рассказать кому-то. Но слово-то дано – отступаться нельзя.
А тут гляжу – вы. Стоите себе на самом краю, за парапетом. Шагнуть готовы. Меня, как ударило: вот он! Дай, думаю, прямо сейчас этому молодому человеку и расскажу! С одной стороны – душу облегчу. А с другой – утопленник он и есть утопленник. Кому он пересказать потом сможет?
Вот что подвигло меня к вам подойти, юноша.
Вижу, Максимушка, вы уже готовы меня выслушать. Тогда давайте присядем. Чего стоять-то? Присядем здесь, на парапет. Вы с той стороны, я – с этой.
– – –
– Не всякий провинциальный город может похвалиться своим драматическим театром. И не всякий провинциальный театр может похвастаться тем, что делает сборы.
Наш театр сборы делал. И не в последнюю очередь благодаря вашему покорному слуге.
Да-да! Не смотрите, что облик мой непрезентабелен. Я – артист! Точнее, был им. Амвросий Немировский! О-о-о! Это имя гремело! Не слышали?.. Жаль…
Как я играл! Как играл! А какие были овации! Зал рукоплескал стоя. Особенно дамы. Их ублажить я умел. Играл так, будто на сцене не мой герой заигрывает с героиней, а я сам флиртую с каждой зрительницей по-отдельности.
Успех у прекрасного пола имел я бешеный. Поклонницы буквально охотились за мной. Ещё бы – звезда! Мог ли я противиться этому? Вопрос, ясное дело, риторический… Не удивительно, что к моей актёрской славе присовокупилась другая – прослыл я незаурядным любовником. Злые языки даже говорили, что наши аншлаги вызваны моими способностями отнюдь не сценического плана. Кто хотел, этому верил. Неудивительно – большинство наших зрителей составляли дамы, которые и не скрывали, что приходили в театр только «на Амвросия».
На одной из вечеринок после спектакля я познакомился с удивительной женщиной. Высокая брюнетка, глаза с поволокой, пышная грудь – её невозможно было не заметить. Мы только встретились взглядами, и этого было достаточно. Роман наш начался в ту же ночь. Мы поехали ко мне, и то, что там произошло не в силах я описать словами, настолько это было восхитительно.
Мы встречались у меня на квартире почти каждый день. Звонил телефон, её шелестящий голос произносил что-то очень коротко, например: «Через пятнадцать минут». Ровно через пятнадцать минут, не дожидаясь звонка, я открывал дверь, она стремительно входила, и наша любовь начиналась прямо с порога. Потом она сразу уходила.
Доминировала всегда она. Странно, но мне, который слыл покорителем женщин, это нравилось. Я находил какое-то странное удовольствие в том, чтобы исполнять её причудливые, порой, жестокие фантазии.
Но вот что было удивительно. Желания, вспыхивавшие во мне к моим многочисленным поклонницам, были словно молнии – стремительно разгорались и столь же быстро угасали. После двух-трёх встреч, а то и после первой, я утрачивал интерес к очередной пассии и начинал искать нового знакомства. Здесь же было не так. Сколько ни наслаждался я моей новой любовницей, желание моё нисколько не угасало. Может быть потому, что после каждого нашего с ней сладостного безумства ощущал я не радостное умиротворение, как обычно, а непонятное опустошение, от которого жажда нового соединения с этой женщиной разгоралось с прежней силой.
Сколько это продолжалось, уже не помню. Несколько недель… Или месяцев? Я был словно в угаре. Мог ли я это прекратить? Да, мог... наверное… Но воля моя была подавлена нескончаемым потоком желаний, которые мне почему-то никак не удавалось удовлетворить.
Возлюбленная моя, как вскоре узнал, была отнюдь не свободна. У неё был муж. Человек тот слыл странным и, где-то, опасным. Впрочем, это обстоятельство, угрожавшее моей жизни, меня не остановило.
Была у меня мысль, что знакомство с ней не было случайным – его устроили мои недоброжелатели, мои завистники, чтобы погубить меня. Что ж, если это так, расчёт оказался верным.
Однажды в самый разгар любовных утех я заметил, что в комнате кто-то есть. Это был её муж. Он сидел в моём кресле и спокойно за нами наблюдал.
Первой моей мыслью было: кого из нас он сейчас будет убивать? Она же, увидев его, ничуть не испугавшись, спокойно поднялась с кровати и без стеснения, не торопясь стала одеваться.
Он полез за пазуху. Я приготовился, бросившись на оружие, которое он, конечно же, сейчас достанет, дорого продать свою жизнь.
Но он достал из кармана пиджака совсем не пистолет и не нож. О нет! Нечто более страшное. Он достал портмоне. Очень дорогое портмоне. Раскрыл его, вынул две купюры по сто долларов и небрежно, двумя пальцами бросил мне на постель со словами: «Это вам. Вы неплохо развлекли мою жену». Вернул портмоне в карман, поднялся из кресла, обнял её за талию, и они удалились.
Уходя, она даже не глянула на меня. Он же в дверях задержался, раздумывая, снова достал портмоне, вынул ещё двадцать долларов и бросил на пол.
Лучше бы он выстрелил…
Я тогда напился… Впервые напился, да так, что не пошёл на службу. Слава богу, меня заменили.
Ставили мы тогда «Мышеловку». Я играл сержанта Троттера. После ухода той пары, как и он, я стал одержим идеей мести. Я страстно возжелал отомстить за унижение и не столько самому обидчику, сколько моей бывшей возлюбленной, которая, как я понял, попросту мною пользовалась. От осознания этого безумная страсть, державшая меня в плену, превратилась в свою противоположность – жгучую всепоглощающую ненависть.
В армии я служил в сапёрной части, и прошёл специальную подготовку. Смастерить и привести в действие взрывное устройство для меня не проблема.
Первой моей мыслью было именно так и поступить. Сгоряча, видимо, не совсем протрезвев, я вышел из дому, прошёлся по магазинам и вернулся, купив всё необходимое. Тут же, не тратя времени попусту, я приступил к делу.
Что бы ни говорили, правильно собрать бомбу нет так уж и просто. Надо тщательно смешать составляющие взрывчатки, разместить её в оболочке, обложив шрапнелью, установить детонатор и, главное, подключить взрыватель. Всё это требует внимания и аккуратности – что-то упустишь, и бомба не взорвётся или, не приведи боже, взорвётся у тебя в руках.
Сосредоточившись на своих действиях, я на время забыл о нанесённой обиде. И вот когда я кухонных весах взвешивал алюминиевую пудру, у меня вдруг, сам собой возник вопрос: а что это я, собственно, делаю? Бомбу? Но я же не убийца. Я – артист!
Ещё я подумал: странная у меня жизнь. Играю кем-то написанные роли, чтобы доставлять кому-то удовольствие. И так с этим свыкся, что запросто исполнял роль даже не любовника – мальчика по вызову, который в финале пьесы непременно должен был получить большой подзатыльник.
Не пора ли перестать быть чьей-то забавой? Почему бы самому не написать себе роль? Чтобы позабавить теперь уже себя.
По всей видимости те двое мнили себя утончёнными натурами. Она творила со мной такое, что было за пределами моей фантазии. Он же расправился со мной не менее изыскано – не тронув и пальцем. Но кто же они такие на самом деле? Поняв, что, несмотря на наши частые встречи, не знаю о ней, а тем более, о нём совсем ничего, я принялся наводить справки.
Узнал я мало. Они появились в городе недавно, всего пару лет назад. Жили уединённо, быть в обществе не стремились. Он вроде бы был влиятельным бизнесменом, который «вышел на пенсию» и управлял своим бизнесом, не покидая пределов особняка, который здесь купил. В чём состоял его бизнес, никто не знал. О ней говорили, что она дочь какого-то крупного руководителя. Все недоумевали, почему она променяла столицу на наше захолустье. Деньги мужа? Вряд ли – она из богатой семьи. Любовь? Тоже сомнительно – муж старше неё лет на двадцать и далеко не красавец.
Что из этого правда, а что досужие выдумки – понять было трудно.
Я также не смог выяснить, были ли у неё друзья, с кем она общалась. Да и манера общения у неё была необычная. В отличие от большинства женщин она не любила болтовни, всё больше молчала. Когда всё же с кем-то разговаривала, то говорила очень коротко и так, что слышал её только собеседник. Даже те, кто стояли рядом, не могли ничего разобрать. Словно она стеснялась. Хотя стеснительной её никак не назовёшь, судя по тому, что она со мной вытворяла. Её не любили, считали высокомерной гордячкой.
Жили они странно. Вдвоём никуда не выходили, и к ним, кроме его охранников, никто не ходил. Соседи, правда, говорили, что, порой как стемнеет, в их двор заезжали какие-то машины, но перед рассветом уезжали.
В город она выезжала всегда одна, в отличие от мужа, который без охранников и шагу не ступал. За рулём была сама. За продуктами никогда не ходила, это делала прислуга. Было одно исключение – мясо. Покупала его только на рынке. Мясники её хорошо знали. Иногда заходила в бутики, бывало, даже делала там покупки. Но ничего из купленного не носила. Одевалась всегда изысканно. Где? То ли шила сама, то ли ей откуда-то присылали.
Из развлечений она предпочитала ночные клубы. Приезжала, опять же, одна, сидела недолго в ВИП-зоне, попивая коктейль, рассматривала посетителей. Изредка ходила в театр. Тоже одна. Выкупала ложу бельэтажа, всегда одну и ту же, не покидала её до конца спектакля, даже в антракте. За действием на сцене следила внимательно, но никогда не аплодировала. После спектакля дожидалась, когда уйдёт публика, и только тогда выходила. На вечеринку, где мы познакомились, она, видимо, пришла специально для встречи со мной.
Это всё, что мне удалось узнать. Если кто и знал ещё что-то о той паре, то предпочитал помалкивать. Прислуга и охранники, жившие там же, в особняке, на улице появлялись редко, и всячески избегали общения.
Впрочем, того, что я узнал, было достаточно, чтобы, как меня учили, понять «внутреннюю логику персонажа».
Это я так думал, что понял…
После того случая мою бывшую возлюбленную я не видел довольно долго. Но однажды, выйдя на сцену, заметил в ложе знакомый силуэт.
Я был готов.
– – –
В тот день шёл «Пигмалион». Хоть я и был знаменит, но по возрасту ни для роли Хиггинса, ни Пикеринга не подходил. Поэтому играл Фредди. Между первым и третьим действиями, когда мой персонаж на сцене, есть свободный промежуток. Тогда-то я и начал моё представление.
В нашем театре, когда нет спектакля, ложи и балконы от греха подальше запирали. Я сделал копию ключа той самой ложи. Пока на сцене Элиза уговаривала профессора Хиггинса научить её правильно говорить, чтобы устроиться в цветочный магазин, я покрался к двери, вставил ключ в «английский» замок, повернул его и, поднатужившись, отломил головку так, чтобы лезвие осталось в замке. Теперь отпереть дверь без слесарного инструмента стало невозможно.
Когда опустили занавес, после поклонов, я не пошёл в гримёрку, а притаился за кулисой и стал наблюдать.
Сидя в кресле и глядя в пространство, она дожидалась, когда зал опустеет. Затем встала и, шагнув к двери, толкнула её. Дверь, разумеется, не открылась. Она подёргала ручку, толкнула дверь ещё раз – с тем же результатом. Постояв и подумав, достала из сумочки телефон. Но позвонить не удалось – глушитель мобильной связи, который у нас включали на время спектакля, ещё работал.
И тут я увидел то, чего увидеть никак не ожидал.
Она отшвырнула телефон, села в кресло, и вдруг стала ожесточённо кусать свою руку. Сунула в рот костяшку указательного пальца и сильно сжала её зубами. Просидела так довольно долго, глядя перед собой дикими глазами. Потом, видимо успокоившись, вынула изо рта окровавленный палец, обмотала его носовым платком. Поискав, подняла с пола телефон, ещё раз набрала номер, подождала и бросила его в сумочку. Затем, сделав над собой видимое усилие, шагнула к барьеру и тихо позвала: «Эй! Кто-нибудь!».
Ей никто не ответил – зрители уже ушли, и служители заперли снаружи двери в партер. На сцене кроме меня, прятавшегося за занавесом, никого не было.
Она снова позвала теперь уже громче.
Вдруг стало темно – электрик, посчитав, что все ушли, выключил в зале свет.
Этого я не учёл. Я попросту забыл, что свет на ночь гасят.
Сначала было тихо. Но вскоре из той ложи донёсся стон, затем тихое завывание.
В кромешной тьме я слушал эти жуткие звуки, не зная, что предпринять. Я планировал совсем другое и теперь лихорадочно соображал, что же мне делать.
Завывание стихло. Некоторое время стояла мёртвая тишина. Вдруг раздался протяжный звук… Я не могу его описать. Это было… даже не знаю, как сказать… что-то вроде крика или стона, полного безысходной смертной тоски. Будто – не человек – какое-то существо оплакивало себя перед неминуемой близкой кончиной. Этот звук не имел какого-то источника. Он как бы изнутри моей головы вырывался через уши наружу.
Когда описывают страх, говорят, что кровь стынет в жилах, что ужас сковывает члены. Уверяю вас: это не просто метафоры, это действительно так.
От того звука мне стало настолько страшно, что я застыл, будто кто-то заморозил меня.
Мелькнула мысль: так сильно я никогда не пугался, большей степени ужаса не может и быть. Но в следующий момент я понял, что просто никогда раньше не испытывал настоящего страха.
Вдруг я почувствовал на своём лице дыхание. Её дыхание. Это было именно она – могу поклясться, чем угодно! После стольких любовных встреч я не спутал бы его опьяняющий аромат ни с чьим другим. Но сейчас в этом дыхании не было ничего человеческого. Оно было ледяным, словно выходило не из тела, а из снежного сугроба.
Всё словно исчезло. Не было ничего. Не было ни искры света, ни малейшего звука. Только ледяное дыхание у моего лица. Да и лица у меня уже не было, не было моего тела, не было и меня. Было лишь размеренное дыхание ледяного ужаса.
Сколько это продолжалось – не знаю. Может быть, считанные секунды, а может, намного дольше.
Потом вдруг всё пропало. И то дыхание, и моя одеревенелость.
Без сил я рухнул на пол. Когда мне таки удалось совладать с собой, с трудом поднялся и на негнущихся ногах побрёл искать выключатель.
Включив свет в зрительном зале, я увидел, что та ложа пуста. Ни в зале, ни на сцене – нигде никого не было. Я был один.
Выйдя из зала и подойдя к двери ложи, я увидел, что та по-прежнему заперта, обломок ключа торчит в замке.
Как она смогла в кромешной темноте покинуть запертую ложу, а затем зрительный зал?
Что я, собственно, собирался тогда устроить? Теперь об это смешно и говорить. Да я уже толком и не помню всего.
Дело даже не в том, что я собирался говорить ей со сцены, когда она, будучи запертой в небольшом пространстве, вынуждена была бы меня слушать. Я хотел, чтобы она почувствовала себя на моём месте. Почувствовала каково быть зависимым от чужой воли, когда кто-то делает с тобой, что хочет, а потом над тобой же потешается.
Я хотел, чтобы она делала то, чего не делала никогда – просила! Просила её выпустить. Потом благодарила бы за это – даже не меня, нет! – слесаря, который открыл бы тот замок.
Позже я понял, что тот мой замысел был смешон, а я, возомнивший себя доминантной личностью, – жалким ничтожеством.
– – –
Что-то холодом потянуло, Максимушка. Вам, наверное, дует из-под моста. Перелезайте-ка вы ко мне, на эту сторону. Присаживайтесь рядышком, не стесняйтесь. Рассказ мой далеко не закончен.
– – –
Как добрался домой, хоть убейте, не помню. Смутно припоминается, что дул пронизывающий ветер, улицы были совершенно пусты, транспорта не было никакого, до самого дома я шёл пешком.
Дома первым делом выпил водки. Выпил порядочно. Только благодаря ей, родимой, и уснул.
Проснулся от того, что кто-то плеснул мне в лицо холодной водой. Открыв глаза, увидел возле моей кровати двоих с неприметной внешностью. Не дав прийти в себя, они завернули мне руки за спину, надели наручники, набросили на голову мешок и поволокли прочь из квартиры. На улице меня посадили в какую-то машину, которая тут же рванула с места.
Ехали недолго. Притормозив перед воротами, машина заехала во двор – я слышал, как за ней закрылись ворота. Меня выволокли наружу и затащили в какое-то помещение, спустив по лестнице, – видимо, в подвал. Там грубо посадили на стул и сзади пристегнули руки к металлическому кольцу, вбитому в стену. Затем мои конвоиры вышли, закрыв дверь.
Так я просидел довольно долго. Страшно замёрз – на мне было только то, в чём я спал.
Не знаю, сколько прошло времени, но дверь, наконец, открылась и послышались шаги. В подвал вошли двое. Один сорвал с моей головы мешок.
Я зажмурился – свет здесь был ярким. Открыв глаза, увидел перед собой того человека – мужа моей возлюбленной. Он сидел на стуле в шаге передо мной.
– Где она? – спросил он без выражения.
Я промолчал.
– Где моя жена? Где Зоя? – спросил он снова. По его тону было не понять, зачем он спрашивает – обеспокоен или это простое любопытство.
– Не знаю, – честно ответил я.
Он молча меня разглядывал, играя желваками.
– Вчера она пошла в ваш театр. Оттуда не вышла. Вы вышли последним, намного позднее всех. После того, как Зоя вошла в театр, её никто не видел. Где она? Где моя жена? Что вы с ней сделали? Где вы её прячете?
Несмотря на эмоциональный накал слов, голос его звучал безо всякого выражения.
Я понял, что в моих интересах рассказать правду. Что я и сделал.
Он выслушал меня молча. Когда я закончил, долго меня рассматривал с тем же безучастным видом. Потом сказал:
– Вы даже не представляете, молодой человек, что натворили, – после долгой паузы продолжил: – Вам придётся её доставить сюда. Сами натворили, сами и расхлёбывайте.
– Я бы с удовольствием! – воскликнул я. – Но как?
– Как хотите, – ответил он. – И, поверьте, удовольствия от этого в не получите.
Он кивнул человеку, стоявшему рядом. Тот достал из кармана шприц, снял с иглы колпачок и, шагнув ко мне, быстро уколол в плечо.
– Десять сорок две, Роберт Оскарович, – сказал он, глянув на часы.
– Десять сорок две, – повторил тот. – У вас, Амвросий, сутки. Двадцать четыре часа. Вы должны доставить сюда Зою. Если не успеете до десяти сорока двух завтра, вирус, который вам только что ввели, активируется и вы умрёте. Уложитесь в срок – получите вакцину и тогда отделаетесь повышенной температурой.
– Но где же мне её разыскать? Подскажите! Вы же её муж, должны знать! И, вообще, расскажите о ней. Как она смогла выбраться из моей ловушки?
– Рассказывать о ней я не стану. Это ни к чему. Вам достаточно знать, что она не обычный… – он замялся. На его лице впервые появилось выражение. Что удивительно, это была растерянность. – Она не обычный… человек, – он замолчал, к нему вернулась прежняя безучастность. – Не думаю, что вам придётся её искать. Она сама вас найдёт. Ещё одно: к врачам не обращайтесь. Вакцины у них нет – об этом вирусе они ничего не знают.
– – –
Меня высадили из машины далеко от дома. Одежды не дали, пришлось идти по улицам в одном исподнем. Впрочем, мне было не до удивлённых взглядов. Я пытался понять, как сохранить жизнь.
Когда я таки добрался домой, то обнаружил дверь квартиры распахнутой. Мои похитители не потрудились её запереть, а кто-то этим воспользовался. Внутри всё было перевёрнуто. Компьютер, телевизор, музыкальный центр, деньги, паспорт, почти вся моя одежда – всё пропало.
Хотел позвонить в полицию, даже стал искать телефон, но, сообразив, что его тоже украли, оставил эту затею. Да и что такое какие-то вещи по сравнению со смертельным вирусом в крови!
От вида разгромленной квартиры пережитый вчера ужас вернулся ко мне в виде тупой тягучей тоски
Я сел на диван, обхватил голову руками и крепко зажмурился. Очень хотелось одного – проснуться. Проснуться, как всегда, встать с кровати, побриться, позавтракать и отправиться в театр… Чтоб всё было, как всегда…
Просидел я так долго. На какое-то время даже поверил, что сплю.
Вдруг – нежное прикосновение... Я замер. Оно повторилось. Лёгкие поцелуи на шее, плечах… аромат, её аромат… Она отвела мои руки от головы и стала покрывать поцелуями моё лицо. Обняв, прижала его к своей обнажённой груди…
Я забыл обо всём. Помню, как погружался в безбрежную нежность её естества, помню подымавшуюся мне навстречу вскипающую горячую волну желания и острое яркое наслаждение, будто ослепительный луч пронизавшее меня, когда та волна, достигнув, наполнила меня до краёв. Помню её глаза, с жадностью впившиеся в меня в момент наивысшего блаженства, которые, как мощный водоворот, втянули в себя весь вспыхнувший во мне безумный восторг.
Опустошённый, выпитый до дна, я рухнул на пол.
– Кто ты? – спросил я чуть позже.
Она молча смотрела на меня. Её взгляд будто исходил из далёкого пространства.
– Кто ты? – повторил я.
Она снова не ответила.
– Я должен отвести тебя к мужу. Если я этого не сделаю, то умру.
Она подала голос:
– Да, быть может.
– Ты можешь меня спасти.
– Ты дал мне всё, что мог.
В её голосе не было ни сожаления, ни укоризны, ни констатации факта. Она просто сказала то, что сказала.
Она подошла к окну и стала смотреть на небо. На ней было то же вечернее платье, что и вчера в театре.
– Как тебе вчера удалось уйти? – спросил я.
Помолчав, она ответила:
– Лишь путь страдания к свободе приведёт.
У неё была странная манера речи… Раньше я этого не замечал. Впрочем, понятно – во время наших встреч, занимаясь любовью, мы не разговаривали.
– Я ничего о тебе не знаю. Кто ты? Расскажи о себе.
– Исторгнув правду чувств, в уплату получить ложь слов… Ты странный… впрочем, как и все…
– Чего ты хочешь?
– Желаю я лишь одного – желаний новых океан, – сказала она и, повернувшись, направилась к двери.
– Но чьих желаний жаждешь ты? Своих? Или того, кто жертвою твоей становится невольно? – спросил я в её же манере.
Она остановилась и, резко обернувшись, внимательно на меня посмотрела.
– Не хочешь ли сказать, что ты не всё отдал мне в пароксизме страсти? – спросила она. В её взгляде зажёгся интерес. – Чего ещё желать ты можешь? Сильнее наслажденья, чем то, что я тебе дала, возможно вряд ли.
– За этим наслажденьем последует моя кончина – и суток не пройдёт!
Она вернулась к окну и, как раньше, стала смотреть на небо.
– Жить хочешь… У этого желанья постный вкус.
– Постный вкус? Но как безвкусным может быть желанье жизни? Изволь же объяснить!
Помолчав, она сказала неохотно:
– Сначала вожделеть безумной страсти, к изысканным стремиться наслажденьям, а после... жаждать растянуть теперь уже ненужное существованье. Как после мяса, что зажарено на пламени костра с приправами и старого вина, жевать траву.
– Сильнее нет желанья жить!
– И травы луговые бывают выше всадника с конём.
– Но что тогда?..
– Желание свободным быть – вот тот деликатес, который у людей встречается не чаще, чем среди песка морского крупинки золота.
– Позволь! Стремление к свободе в крови у каждого!
– Пустое! О свободе говоря, вы все стремитесь в клетку, что вам по нраву более чем тысячи других.
– Я не настроен спорить. Как о свободе я могу мечтать сегодня, если завтра в это время уж буду мёртв?
– Нет прочней темницы, чем клетка собственного бытия…
– Ты предлагаешь умереть?
– Мне всё равно. Ты уж боле не угостишь меня ничем, – она собралась уйти, но передумала. – Хотя, постой… а вдруг я неправа? Ведь и трава, когда её искусно приготовит умелый повар, способна насладить вкус искушённый…
Вдруг она с размаху залепила мне звонкую пощёчину.
– Встань и в порядок приведи себя!
Я осознал, что совершенно голый лежу на полу. Вскочил на ноги и принялся искать в остатках моего домашнего хозяйства во что одеться. Нашёл-таки старые джинсы и футболку – ворам они не приглянулись.
Я сел на стул, она стояла вполоборота ко мне у окна и смотрела в небо.
Я сказал:
– Тот человек – твой муж – велел мне привести тебя. Иначе я умру – он ввёл мне яд.
– Он мне не муж. Я пленницей его была.
– Вы выглядели, как супружеская пара… В чём плен твой состоял?
– Явилась я, чтоб насладиться его желаньями – их аромат далёко разносился. Они были сильны и вкус имели редкий. Я с жадностью их выпила. И в тот же миг все силы прежние мои меня покинули. Я поздно поняла: тот редкий вкус был вызван ядом, чьим предназначеньем было меня навеки в это тело заковать.
– Теперь то в прошлом?
– Попав в ловушку тела, мне приходилось жизнь вести такую, чтоб не погибнуть вместе с ним. Вчера часть сил моих ко мне вернулась – настолько страх заточенья был силён. Теперь уж до свободы полной мне осталось совсем немного. И нет причины возвращаться к тому, кто назывался мужем.
– Когда тебя не приведу, смертельной буду поражён болезнью. Приди туда со мной, прошу! Меня спасут. А ты потом покинешь дом тот, коль силы чувствуешь в себе.
– В тот дом я не вернусь!
Набравшись решимости, не имея другого плана, я бросился на неё, рассчитывая чем-нибудь связать. Но только мои руки её коснулись, в глазах у меня потемнело, я услышал тот жуткий звук, что и вчера в театре. Как и тогда меня охватил панический ужас. Члены мои ослабли, я упал на пол, ударившись головой о подоконник.
Когда, придя в себя, я открыл глаза, она меня разглядывала, наклонившись к самому лицу.
– Невызревшая ненависть… Приятный терпкий вкус. Но портит страха кислота, – она выпрямилась и вернулась к окну. На её лице было написано разочарование. – Коль уж собрался ненавидеть, забудь о страхе. Ненависть должна быть чистой, как и любовь, свободна от боязни. Иначе ею ты не сможешь насладиться.
– Тебя я спас. К тебе вернулись силы мне благодаря. Ты у меня в долгу!
– Не ведома мне благодарность к людям. А разве у тебя есть чувства к тем, чьё мясо ешь?
– Я лишь скотина, что ты держишь на убой! Но почему же я?
– Желанья большинства скучны, как чёрный хлеб. Полакомиться необычным – редкая удача. Ты в этом смысле был находкой.
– Но что же изменилось?
– Да ничего! Всё дело в этом. Однообразье даже в лакомствах надоедает. Была надежда, что новые желанья, которые имеют яркий вкус, ты сможешь пробудить в себе. Но нет… напрасно…
Она решительно направилась к двери.
– Куда же ты? Постой! Прошу! – воскликнул я.
Забывшись, я бросился к ней, но мои ноги подкосились, и я рухнул на пол. Она же сказала:
– Оставь! Нет пользы от тебя. Других пойду искать.
– – –
– Амвросий, почему, собственно, вы решили, что я вас испугаюсь? – сказал Роберт Оскарович.
От этого вопроса решимости моей поубавилось. И не столько от самого вопроса, сколько от индифферентного тона, которым он был задан. Я осознал собственную нелепость – стою в замызганной футболке и драных джинсах со взрывчаткой на поясе перед человеком, который сидит в роскошном кресле и которому на всё наплевать.
– Если вы не введёте мне вакцину, я взорву бомбу! – решительно заявил я.
– Да. Со сценической речью у вас всё в порядке. Должно впечатлить, – отметил он, помедлив. – Но не впечатляет.
Он замолчал, хладнокровно меня разглядывая. Я тоже молчал, не зная, что сказать – ожидал чего угодно, только не безразличия.
В кабинете, где мы были, всё поражало своими размерами: окно во всю стену, письменный стол, на котором можно было танцевать, камин с очагом, где можно было зажарить целого кабана. Перед камином стояло старинное кресло с высокой спинкой. В нём с сигарой в руке сидел хозяин дома, а я стоял перед ним. За моей спиной, у двери были два охранника.
– Уберите охрану! – выпалил я просто, чтобы прекратить паузу.
Роберт Оскарович еле заметно пожал плечами и сделал жест рукой. Охранники вышли, закрыв за собой дверь.
– Прикажите ввести мне вакцину! – повторил я своё требование.
– Вы имеете мне что-то предложить? – спросил Роберт Оскарович.
– Вашу жизнь! – выпалил я.
– Боже, как пафосно… – пробормотал он и затянулся сигарой.
– Вам она не дорога?
– Вопрос о ценности жизни – философский вопрос. С удовольствием обсудил бы его… с кем-нибудь разумным.
– Если я отпущу кнопку, сработает детонатор. Вы мне не верите?
– От чего же? Допускаю такую возможность. Общение с Зоей имеет странные последствия для неокрепших умов. Кстати, где она? Насколько помню, я просил вас её привести…
– Она ушла от меня. Я не смог её задержать. Это невозможно! Она же не человек!
– Вот-вот… Я же говорю: на слабые умы она воздействует весьма странными образом.
– Я не слабоумный!
– А я этого и не говорил. Вы артист. Невротик, следовательно. Слова, звуки, запахи – на вас такое действует… А она… она умеет, она многое умеет. Кто с мозгами – те ей не по зубам. А такие, как вы – самое оно.
Он аккуратно положил недокуренную сигару в пепельницу, стоявшую у него под рукой на подлокотнике кресла. Перехватив мой взгляд сказал:
– Гаванская. Прямиком с Кубы. Не обессудьте, вас угощать не стану. Вам не по чину.
– Прикажите ввести мне вакцину, иначе я взорву себя и вас!
– Могу предположить, что вы меня ненавидите. Потому сюда и явились с бомбой. Нет, не так… Боитесь и ненавидите – так вернее будет, пожалуй. Глупо. Пришли бы с пистолетом, был бы у вас шанс. Мизерный, но был бы. Но с бомбой на поясе… Сами рассудите. Ну убьёте вы меня, допустим. Вам-то что с этого? Вы ведь тоже погибнете. Как же вы сможете насладиться моей смертью?
– Причём тут?..
– При том. Зачем люди убивают друг друга? Затем же, зачем занимаются любовью – ради наслаждения. От смерти того, кого ненавидишь, наслаждение немалое. Выстрелишь в него и смотришь, как он дышать перестаёт, как его глаза стекленеют… Потом такое блаженство на душе…
– Вы садист.
– Отнюдь, молодой человек, отнюдь. Есть две вещи: радость лучшего друга и смерть злейшего врага. И то, и другое надо пережить. Без этого жизнь теряет главное – полноту.
Я промолчал. Какое-то время он разглядывал меня, потом сказал:
– Зря я это говорю. Не ваш масштаб. Вы, судя по всему, мастак только по влажным местам.
– Прикажите ввести вакцину!..
– Бросьте канючить, Амвросий! Не будете вы себя взрывать. Вы фигляр. И эта ваша бомба – сплошное фиглярство. Я вам не верю, хоть и не Станиславский. Плохо играете. Когда человек способен себя убить, то и сыграть такое может. А вы неспособны – за километр видно. Потому и Зоя вас ко всем чертям послала. Хотите вакцину – приведите её сюда. А сейчас убирайтесь.
Я шагнул к нему, взял из пепельницы ещё тлевший окурок сигары и демонстративно прижёг им тыльную сторону правой ладони, в которой держал пульт с кнопкой взрывателя.
В глазах Роберта Оскаровича промелькнуло удивление.
– Решительно. Ничего не скажешь. Мне бы так перед походом к стоматологу, – сказал он. – Я, по правде, решил, что вы собрались докурить... Но раз так!..
– Вы унижаете людей тоже удовольствия ради? – спросил я, бросив окурок в пепельницу и стараясь не морщиться от боли.
– Я говорю то, что думаю. Считать это просто моим мнением или расценивать, как оскорбление зависит от степени ничтожности собеседника.
– Кстати, вы знаете, что ваша жена, утверждает, что она вам совсем не жена?
По его лицу пробежала тень.
– Понимаю, вы пытаетесь меня уязвить. Весьма неудачно, – сказал он. – Зоя… личность эксцентричная. От неё можно всякое услышать… Но она мне жена, уж поверьте. В церкви мы, правда, не венчались, но свидетельство о браке существует.
– Браки совершаются на небесах.
Он брезгливо поморщился.
– Некоторые люди считают, что иметь интеллект – это хранить в голове некий набор банальностей и уметь в разговоре извлечь нужную. Вы, судя по всему, один из них.
– Она сказала, что вы держите её в плену.
– Вот как? Так и сказала?
– Да! Так и сказала!
– М-да… Не скрою, был у нас с ней такой этап… сразу после знакомства… К счастью, это позади. В данном случае она правильно сделала, что вспомнила. Хороший ход! Молодец!
– Что хорошего?
– Если бы она это не сказала, вы бы не пришли сюда с бомбой.
– Вы довольны, что я собираюсь вас взорвать?
– Я доволен, что мне удалось многому научить Зою.
– Станет она у вас учиться! Она вас ненавидит!
– Вот чего нет, того нет. Думаю, здесь вы врёте, молодой человек. Не могла она такого сказать. Но даже, если и так… – впервые за весь разговор в его глазах появился намёк на теплоту. – Ненависть – это хорошо. Это чувство.
– Вы – ненормальный! Ненависть – это хорошо, а убийства приносят наслаждение!
– Допускаю, что в привычный вам круг я не очень-то вписываюсь. В круг тех, кто по вашему мнению нормален. Но это лишь ваше видение. Ваше и некоторого количества, таких, как вы.
– Некоторого количества? Да таких большинство! Всё человечество!
– Ну-ну-ну, юноша! Не надо за человечество расписываться.
– Почему же нет? Моральные ценности везде одинаковы. Все религии мира запрещают убивать.
– И при этом развязывают войны за веру и жгут еретиков на кострах. Заживо!
– Да, мир не совершенен, но гуманизм-то не зря придумали!
– Да-да. Каждый гуманист, пока ему на ногу не наступят.
– Вы оправдываете убийства?
– Смерть и рождение это, собственно, одно и то же, просто с разными знаками. Чтобы родить человека надо предпринять определённые усилия, и общество их оправдывает. А когда речь заходить о смерти, так ни-ни! Двойные стандарты, как сейчас принято говорить.
– Вы отрицаете общепринятую мораль?
– Я отрицаю общепринятое лицемерие. Если один человек преднамеренно убил другого человека, то его надо преднамеренно убить, а не кормить и лечить за счёт общества долгие годы пока он сам не отдаст богу душу.
– Общество не должно убивать. Это нарушение принципов гуманизма.
– Общество убивает своих членов каждый день. В массовом порядке. Кто-то умирает то болезней, потому что его не могут или не хотят лечить, кто-то гибнет под колёсами из-за бардака на дорогах, кого-то убивают подонки, которых какой-то гуманист постеснялся вовремя пристрелить.
– А вы, вы сами, лично готовы стрелять? Вы готовы стать палачом? Убивать во благо общества?
– Я не имею к вашему обществу никакого отношения. Посему мне на него плевать. Я здесь, чтобы решать свои собственные проблемы. И решаю их, как считаю нужным. Не вдаваясь в пустое морализаторство. Сейчас моя проблема – это жена, сбежавшая из-за жалкого паяца.
– Послушайте! Если вы решаете свои проблемы, если вы такой могущественный, зачем вам я? Найдите её и верните!
– С вашей помощью это сделать проще.
– Вот оно что! Вы знаете, что она не хочет быть с вами и хотите, чтобы я её уговорил. Или приволок силой.
– Ну… или так…
– Разве вы не знаете, что насильно мил не будешь?
– Это не тот случай.
– Почему же не тот? Именно тот! Опостылевший муж хочет, чтобы любовник, к которому сбежала его жена, силой её вернул. Нелепо! Смешно!
– Смейтесь. Вам, аккурат, двенадцать часов осталось.
– Не двенадцать. Меньше. Я, кажется, поступлю по-вашему. Наплюю на гуманизм и убью подонка.
– По-моему? Ну хорошо! Давайте! Отпускайте кнопку! Убейте подонка! Что задумался? Своя задница дорога? Отпускай кнопку, говорю, клоун! Вакцины ты не получишь! Если Зоя здесь не появится, сдохнешь, как собака!
– Раз так, мне терять нечего! Умри душа моя с филистимлянами! – воскликнул я, зажмурился и разжал руку, в которой был пульт.
– – –
Максимушка, вы знаете, откуда эта фраза: «Умри душа моя с филистимлянами!»?
Не знаете.
Был такой библейский богатырь Самсон. Враги, филистимляне, ослепили его и приковали цепями к колоннам своего храма. Он же, произнеся эти самые слова, рванул на себя те колонны. Храм обрушился, похоронив под собой сотни филистимлян и самого Самсона.
Вы, Максимушка, спросите, наверное, почему я, далеко не герой, решившись на отчаянный шаг, произнёс эти слова?
Убейте меня, Максимушка, не знаю…
Себя иногда понять трудней, чем всё человечество.
– – –
Говорят, что умирать от взрыва не больно. Не чувствуешь совсем ничего. Тебя разрывает на части, давление крови в мозгу падает, в нём исчезает кислород, и он уже не может уловить болевые сигналы от разорванных нервов.
Когда в следующий момент я ничего не почувствовал, то решил, что у меня получилось – бомба взорвалась, ещё мгновение – и всё...
Я даже испытал что-то вроде гордости – вот какую замечательную бомбу я сделал собственными руками!
Но мгновение прошло. Потом ещё одно. Ещё…
Я осторожно открыл глаза. Первое, что увидел, – мой пульт, намертво зажатый в руке.
Как так? Я же его отпустил!
Я испугался: второй попытки не будет – у меня не хватит решимости.
Я смотрел на пульт, зажатый в руке, пока до меня не дошло: рука не моя!
– Вот видишь, Роберт, я не ошиблась! Съестное я выбираю хорошо!
Она стояла рядом, крепко держа пульт, и пристально на меня смотрела. Её ноздри раздувались, на щеках пылал румянец.
– Сухая горечь близкого конца и сладость разрешения сомнений! И с ними терпкость ненависти с малой кислинкой страха, что уместно, ибо она пикантность придаёт букету. Какой отменный нежный пряный вкус! А послевкусие-то каково! В нём рухнувшей надежды острота и аромат несбывшихся желаний. Какое наслажденье ощущать во рту такое дивное богатство! Воистину, ты гениальный повар, мой дорогой супруг!
Она говорила, не отрывая от меня взгляда.
– Да, Зоечка, провиант ты выбирать умеешь, – ответил Роберт Оскарович, как обычно, без выражения.
– Ничто не может сравниться с тем, как его готовишь ты! – воскликнула она восхищённо.
Роберт Оскарович поднялся из кресла и ловко снял с меня пояс со взрывчаткой. Отсоединив контакт батареи, он положил бомбу на стол.
Затем нажал кнопку вызова охраны.
– – –
Почему мы поступаем так, а не иначе? Что нами движет, когда мы решаем, на какую из дорог ступить? Сердце или мозг? Эмоции или разум? Как трудно сделать выбор, когда они рвут нас на части, растягивая в разные стороны! Какая мука одновременно испытывать и жар палящих чувств, и холод трезвого рассудка!
Не скрою, до тех событий, я, не особо задумываясь, отдавался лишь своим чувствам. Потому поступки мои не отличались благоразумием.
Потому-то и был пойман Зоей.
Когда она сожрала мои эмоции, мой разум, доселе дремавший под их игом, вдруг воспрял. С необыкновенной ясностью я осознал, как мне поступить.
Бросившись к столу, я замкнул контакт батареи бомбы, затем нырнул головой в камин, опрокинув по дороге кресло так, чтобы оно своей массивной спинкой закрыло меня от взрыва.
– – –
Был сильный пожар. Дом выгорел дотла. Странно, но никаких останков на пожарище не нашли. Потому мне предъявили лишь обвинение в умышленном поджоге. Я получил малое наказание и, отбыв его, был выпущен на свободу.
Вернуться в мою разграбленную квартиру мне не удалось. Пока я отбывал приговор, аферисты успели её несколько раз перепродать.
О возвращении в театр и речи быть не могло. Мои завистники сделали всё возможное, чтобы «этого уголовника и на порог не пустили».
Много лет я веду жизнь свободного человека. В чём моя свобода? Я свободен от страстей. Жизнь без страстей, знаете ли, имеет свои преимущества. Спросите, какие? Разные… Скажем, мне и в голову не придёт броситься с моста в реку.
– – –
Не знаю, кто были те двое… И как они очутилось в нашем мире, не знаю. И куда делись потом тоже не знаю. Зачем это мне? Зачем это знать?..
Что ни говорите, я тогда поступил правильно.
Или нет?..
– – –
Такая вот история… Странная… Вы, Максимушка, разумеется, вольны делать свои выводы. Возможно, вы мне не поверили, решили, что всё это я выдумал только что с целью отвлечь вас от фатального шага. Ну что ж, не считаю возможным вас разуверять...
Обратите внимание, Максимушка, на дальний конец моста. Не к вам ли торопится вон та юная особа со взволнованным заплаканным лицом? Не она ли причина вашего сегодняшнего столь опрометчивого решения? Вижу-вижу – она! Так поспешите же к ней немедля!
Днепр, 2017–2018
Скачать на телефон Купить книгуПосле выстрела в сердце

В зале были свободные столики, но он сел за мой.
– Вы любите людей? – спросил он без обиняков.
Я промолчал.
– Видимо, нет, – продолжил он, по-своему истолковав моё молчание.
– Я люблю животных, – ответил я.
– Да-да, прямо по Гитлеру: «Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак», – сказал он, рассеянно вертя в пальцах ложечку. О своём кофе, он, похоже, забыл.
– Это сказал Гейне.
– Какая разница? Все разумные люди приходят к одному и тому же.
– Вы равняете еврея Гейне и Гитлера?
– Почему нет? Оба были незаурядными личностями.
Ему было лет тридцать. Серые глаза, широкий лоб, бесцветные волосы, рыжеватая бородка. Дорогой костюм, брендовые часы, аромат элитного парфюма не вязались ни с заурядной внешностью их обладателя, ни с простецкой обстановкой заведения быстрого питания, где мы находились.
– Считаете себя исключительным? – спросил я.
– Зря иронизируете. Вам это трудно понять, но я действительно сумел подняться над толпой. Могу рассказать как.
– – –
Люблю тишину. Тишину и одиночество. Когда можно погрузиться в свои мысли и не нужно от них отвлекаться на других людей.
Я вырос на рабочей окраине, где тот, кто читает книги, выглядит белой вороной и должен всегда быть начеку. Детство моё прошло в четырёх стенах нашей убогой квартирки – единственном месте, где можно было укрыться от окружающей безысходности.
Я никогда не ломился в закрытые двери. Шёл туда, где открыто. После школы поступил на физический факультет. Почему туда? Конкурс был маленьким, да и точные науки мне давались легко. После диплома работы по специальности не нашёл. Кому сейчас нужны физики? Устроился в одну из контор городского управления. Меня взяли – там как раз умер сотрудник. Повезло. Должность низкая, зарплата маленькая – зато спокойно.
Мать до самой своей смерти меня донимала: не сиди в тени – ничего в жизни не добьёшься. Сама-то чего добилась? Всю жизнь у плиты...
Я, что называется, не высовывался. С начальством не спорил, молча делал, что говорили. С сотрудниками изображал приветливость. Меня даже любили! Как же: вежливый исполнительный молодой человек, всегда улыбается, никогда не противоречит! Им было невдомёк, что мне просто на всё наплевать: и на мою работу, и на тех, с кем её делаю. Это не было моей жизнью. Туда я ходил только ради куска хлеба.
Жить я начинал, когда, вытерпев муки нахождения среди сотрудников в офисе, покупателей в магазинах, пассажиров в транспорте, возвращался в доставшуюся от родителей квартирку и запирал за собой дверь. Со щелчком замка начиналась моя настоящая жизнь, с моими книгами, моим интернетом, моими фантазиями. Другим места в ней не было.
Такая жизнь меня устраивала – мне было спокойно.
И вдруг всё изменилось.
Я никогда не подаю нищим. Стараюсь быстрее пройти мимо. Но тот старик не просто просил. На земле у его ног лежали книги.
Среди них была одна. На почерневшей от времени бумажной обложке дореволюционным шрифтом было написано: «Путь негодяя». Издание тысяча девятьсот десятого года. Автор – некто Артемий Куликовский. Почему-то я сразу её схватил. Наверное, потому что люблю старинные вещи. Бросив старику деньги, я с «добычей» в руках поспешил домой.
Заперев дверь, первым делом я раскрыл книгу. Хотел посмотреть, о чём там пишут, и отложить на потом. Но едва я прочёл первые строки, по коже пошёл мороз.
Книга была обо мне.
Героя книги звали, как и меня, Марком. Его отец, как и мой, был мелким служащим, мать занималась домашним хозяйством. Учился Марк в гимназии, которую, как и я свою школу, от души ненавидел. Даже оценки его были, как и мои: по физике и химии пятёрки, по языку тройки. После гимназии поступил в университет, потом – в какую-то контору.
Откуда какой-то Артемий Куликовский сто лет назад мог столько знать обо мне? Да и кто он такой? Вот вы, к примеру, знаете такого писателя? Нет. И я не знаю. Я перерыл весь интернет, но ничего о нём не нашёл. То ли это псевдоним, который был использован лишь однажды, то ли этот писатель одну книгу и написал.
На биографии героя совпадения не заканчивались. Автор подробно описал его внешность. Он был – точно я. Даже родинка на его щеке была, как у меня. Вот, видите? Здесь, возле уха. Будто господин Куликовский описывал своего Марка, внимательно меня разглядывая.
Прочтя первую главу, я захлопнул книгу и, выбежав из дому, бросился к тому старику. Но его не оказалось. На том месте сидела какая-то опухшая от самогона бабка. В ответ на мои расспросы я услышал лишь невнятный пьяный бред.
Тогда я поспешил к одному моему сокурснику, который работал в университете. В его лаборатории были нужные приборы, и он быстро сделал анализ. Оказалось, что и бумага, на которой напечатана книга, и типографская краска действительно были столетней давности. Да и сильный микроскоп, с помощью которого я осмотрел книгу, позволил убедиться, что она очень старая.
Вернувшись домой, продолжить чтение я решился не сразу. Дождался, когда прошло первое потрясение и, собравшись с духом, снова раскрыл книгу. Однако там меня ждал новый сюрприз.
Во второй главе мой двойник убивает человека.
Возвращаясь домой поздно вечером, он становится свидетелем того, как какой-то мужчина пытается надругаться над хрупкой барышней. Сцена такова: девица в разорванной одежде, хрипя, из последних сил пытается сбросить с себя насильника, тот крепко держит её за горло и уже готов достичь своей цели. Марк, не раздумывая, хватает лежащий неподалёку булыжник и что есть силы бьёт им мерзавца по затылку. По неопытности бьёт слишком сильно – насильник сразу испускает дух. Марк делает попытку кое-как успокоить несчастную жертву. Но испуганная барышня пускается наутёк, оставив героя наедине с трупом.
На следующий день двое незнакомцев хватают Марка на улице и заталкивают в закрытый экипаж. Везут его за город, в имение некоего богатого господина. Оказывается, что тот господин – отец спасённой вчера девицы. Она запомнила внешность своего спасителя и описал его отцу. Тот приказал своим людям во что бы то ни стало разыскать и доставить этого человека к нему. Те и выполнили приказ. А бывшая тут же вчерашняя жертва подтвердила, что это именно он.
Хозяин имения объяснил Марку, что же, собственно, тот совершил. Оказывается, вчерашним насильником был некий торговец с рынка, ничтожная личность, который давно домогался его дочери. Отказы, которые он раз за разом получал, не только не остудили его пыл, но, наоборот, только раззадорили. От букетов и пылких посланий он перешёл к преследованию. Он подкарауливал предмет своих вожделений во время её выездов в город и появлялся рядом, не скрывая похотливых намерений. Обращения отца в полицию оказались бесполезными. Видимо, преследователь имел там связи. Когда его домогательства стали уж совсем нестерпимыми, отец девицы прибёг к крайней мере: нанял людей из уголовной среды, чтобы те за некую сумму раз и навсегда решили этот вопрос.
Вчера девица, возвращаясь от модистки, неосторожно отдалилась от сопровождавших её людей. Тут же она была схвачена и унесена в тот переулок, где всё произошло. А Марк случайно оказался человеком, который поставил точку в этой драме. А раз так, то и объявленное вознаграждение по праву принадлежит ему.
С этими словами хозяин имения вручил Марку объёмистый конверт. А те же люди, что привезли сюда Марка, отвезли его в город.
Лишь придя домой и запершись на все замки, Мрак решился раскрыть конверт. Там были деньги. Марк пересчитал: столько в своей конторе он не заработал бы и за пять лет.
Марк никогда не жаловался на скудное жалованье и не требовал у начальства прибавки. Но кто сказал, что втайне он не мечтал о больших деньгах? И вот в его руках богатство! А в голове вопрос: что с ним делать?
Как все небогатые люди, Марк не умел обращаться с большими деньгами. Первой мыслью было: сейчас же пойти и купить себе нечто эдакое! Он даже встал со стула и направился к двери. Только отпер первый замок, как в голову пришла мысль: сейчас он пойдёт по городу с такой суммой в руках? А увидит кто? Нет, не стоит… Может, взять с собой толику, а остальное оставить дома? Где? На столе? А вдруг воры?!
Марк стал искать место, где можно спрятать деньги. Такое место нашлось – на чердаке, между стропилами и черепицей. За оборудованием тайника закончился день. Выходить из дому было уже поздно, и Марк, исполненный предвкушений, лёг спать.
Ночью он проснулся от того, что кто-то стоял у его кровати. Он рывком сел и огляделся. В свете уличного фонаря он увидел, что в комнате были два человека устрашающей наружности. Их лица были испещрены шрамами, на руках татуировки.
Приставив к горлу Марка острый нож, младший из них объяснил, что они – те самые, кому отец спасённой им девицы, поручил разобраться с её обидчиком, пообещав вознаграждение. Он же, Марк, выполнил ту работу и, следовательно, присвоил чужие деньги. И теперь он должен их отдать потому, что по законам этих людей содеянное им карается смертью.
Марк, которого среди ночи застали врасплох, не нашёлся, что ответить. Тот, кто держал нож, расценив его молчание как отказ, замахнулся, чтобы прикончить его. Но старший товарищ перехватил его руку. Что-то в Марке натолкнуло его на мысль. Он решил предложить сделку.
Как раз сегодня этим двоим заказали убить некоего человека. Если бы Марк взялся выполнить эту работу бесплатно, то в таком случае они были бы в расчёте.
Марк засомневался, получится ли у него. Он ведь не убийца. Того человека он убил случайно.
Его заверили: убивать – небольшая хитрость, трудно убить первого, потом само пойдёт. А первого он уже убил.
Марк задумался. Он оглядел своё убогое жильё, вспомнил свою контору, насмешки сослуживцев. Вспомнил приятную тяжесть стопки ассигнаций и те сладостные мечты, с которыми давеча засыпал.
После недолгих раздумий он согласился.
В книге описывается, как он убил вторую свою жертву, что при этом чувствовал. Я опущу эти подробности – они неважны.
Вернувшись домой, он достал из тайника деньги и смело отправился их тратить. То ли делал это неосмотрительно, или по другой причине, но только в народе поползли слухи о способе, каким он их заработал. Неожиданным следствием этих слухов явилось то, что разные люди стали просить его разрешить и их затруднения, разумеется, за плату. Марк, испугавшись такой славы, поначалу отнекивался, убеждал, что он к этому ремеслу не имеет отношения. Но потом, сообразив, что прелести сытой жизни рано или поздно закончатся, решил: почему бы их не продлить? Да и другое: деньги сами идут в руки – зачем отказываться?
Ночные визитёры, с подачи которых Марк стал наёмным убийцей, были неместными и из города уехали. Делиться гонораром не надо было, и состояние Марка стало расти. Он бросил службу, переехал в новые апартаменты, стал выходить в свет. Его часто видели с дорогими женщинами, которых привлекал кровавый аромат его славы.
Закончилось всё печально.
Со временем Марк, скопил солидную сумму. Он решил оставить своё ремесло и переехать куда-нибудь, где тепло. Оставалась ерунда – выполнить последний заказ. Но жертва, видимо, была предупреждена о покушении. Тот человек хорошо владел оружием. Когда Марк к нему приблизился, он выстрелил первым.
Не могу описать впечатление, которое произвела на меня книга. Уж очень много общего было у меня и того, книжного, Марка. О чём я только не думал, чего себе не навоображал! Какая только мистика не приходила мне на ум!
Поуспокоившись, я ещё раз пролистал книгу. На холодную голову я увидел, что при множестве удивительных совпадений, различий между мной и моим двойником было гораздо больше.
Я окончательно успокоился и решил считать ту книгу лишь необъяснимым курьёзом.
Я ошибся.
Кто-то сказал, что чрезмерные совпадения равносильны судьбе.
Это случилось на следующий день. На работе у нас было какое-то мероприятие. Сейчас уже и не вспомню какое. Кажется, отмечали чей-то день рождения. Мне пришлось возвращаться домой очень поздно.
На полдороге, из незаметного переулка до меня донёсся сдавленный женский крик. В других обстоятельствах я просто ускорил бы шаг. Но не сейчас. Прочитанное крепко засело в моей голове.
Немного пройдя, я увидел лежащую на земле девушку в разорванной одежде и какого-то мужчину, который, навалившись, двумя руками душил её. Спущенные брюки красноречиво говорили о его дальнейших намерениях. Девушка слабо сопротивлялась, её лицо было красно, глаза неестественно выпучены.
Я подошёл тихо, и ни она, ни нападавший меня не заметили. Некоторое время я стоял и молча смотрел. Вскоре хрипы девушки стихли, а мужчина, приподнявшись и запустив руку вниз, приготовился совершить задуманное. Я поднял с земли обломок кирпича и острым краем что есть силы ударил его по шее. Раздался хруст позвонков, мужчина замер, затем обмяк и упал на свою жертву.
Какое-то время я продолжал молча смотреть на этих двоих: бывшую без сознания девушку и лежащего на ней мужчину.
Присев, я перевернул мужчину, стащив с девушки, и стал нащупывать пульс на его горле. Пульса не было.
Вдруг девушка хрипло вздохнула, открыла глаза, села и, держась за горло, стала кашлять. Потом, насилу придя в себя, посмотрела на труп своего обидчика, на меня, снова на труп.
– Он вам ничего не сделает. Он мёртв, – сказал я.
При звуках моего голоса она отшатнулась, глядя на меня дикими глазами, и, вдруг вскочив, бросилась бежать.
Я остался в глухом переулке один на один с трупом человека, которого только что убил. Растерянности, страха, раскаяния – ничего такого не было.
Я ощутил небывалое облегчение. И затем – покой и умиротворённость.
Такого со мной никогда не было.
Мой вечный спутник – тревога – вдруг отступила. Будто после тридцати лет одиночной камеры я внезапно обрёл свободу.
Я понимал, что как только покину то место, это восхитительное ощущение исчезнет. И потому медлил, рискуя быть замеченным.
Уходя, я обернулся, чтобы, в последний раз взглянуть на содеянное мною.
На следующий день, когда я возвращался домой, из того самого переулка мне навстречу вышли двое. Не поздоровавшись и не представившись, один из них безапелляционно заявил, что я должен проехать с ними «тут недалеко». Молча, я сел в их «Лексус», и они привезли меня в дом к одному известному в городе бизнесмену. Тот рассказал историю точь-в-точь, как ту, что изложена в книге господина Куликовского.
Некий торговец шаурмой повадился преследовать его дочь. Уговоры и угрозы не смогли его отвадить, полиция делать ничего не хотела. Тогда отец заказал этого негодяя профессиональным киллерам. Но их работу выполнил я, и потому, как честный человек, он вручает мне их вознаграждение. С этими словами он сунул мне в руку большой запечатанный конверт.
Во время разговора в комнату вошла вчерашняя девушка. Её лицо было в ссадинах, на горле – синие пятна. Внимательно посмотрев на меня, она молча кивнула отцу и вышла.
Дома я раскрыл конверт. Там были деньги. Много денег.
Этим вечером спать я не ложился. Выключил свет, уселся в кресло и стал ждать.
Около часу ночи тихо щёлкнул дверной замок. Появились двое. Когда они прошли в комнату, я включил настольную лампу. От неожиданности оба присели. Тот, что младше, выхватил пистолет и стал водить им по сторонам. Когда его глаза привыкли к свету, направил его на меня. Старший быстро совладал с собой и сел на стул.
Младший, тыча в меня пистолетом, принялся, используя скудный словарный запас, весьма темпераментно объяснять, что я присвоил его деньги, и немедленно должен их отдать, или он меня убьёт. Моё спокойствие его ещё больше разозлило, и он подскочил ко мне, чтобы ударить. Но я его опередил, изо всей силы ударив в пах. Он упал и выронил пистолет. Старший, не торопясь, нагнулся, поднял пистолет и небрежно сунул себе в карман.
Пока его товарищ приходил в себя, он сказал, что я действительно без спросу влез в чужую сделку и присвоил их заработок. Я должен эти деньги отдать. Иначе – он развёл руками – они вынуждены будут меня наказать.
Я ответил, что денег при мне нет – я их спрятал вне дома.
Деньги лежали в ящике стола. Я и не думал их прятать. Я солгал.
Тогда старший сказал, что они придут за деньгами завтра в это же время. Мне лучше их отдать, потому что спрятаться я не смогу нигде – найдут и тогда уже разговоров не будет.
Он подхватил своего товарища, и оба они удалились.
Назавтра в тоже самое время моя дверь открылась, и старший вошёл в моё жилище. На этот раз он был один. Сев на стул напротив меня, и глядя на лежащие на столе деньги, которые я заранее приготовил, он стал говорить.
Он спросил, умею ли я стрелять. Я ответил, что хоть в армии и не служил, но стреляю неплохо – будучи студентом, занимался спортивной стрельбой. Такой ответ его удовлетворил. Потом он сказал, что хоть я и дилетант, но своё первое убийство совершил хорошо – жертва умерла сразу, следов моих не осталось. И ещё его восхитило моё вчерашнее хладнокровие – не каждый способен сохранять твёрдость духа под направленным на него дулом.
Потом, тщательно выбирая слова, он сказал, что у меня явно есть склонность к некоему редкому виду деятельности. Я прямо спросил, не имеет ли он в виду, что я могу стать киллером? Моя прямота застала его врасплох. Прокашлявшись, он сказал, что да, он имеет в виду именно это. И добавил, что как раз есть такая работа, и если я её выполню, то эти деньги – он посмотрел на лежащую на столе стопку купюр – могу оставить себе.
Я согласился.
А тот человек стал моим посредником. Оказался очень умным, начитанным, действительно незаурядной личностью.
Второго, который размахивал пистолетом перед моим лицом, я больше не видел. Однажды я спросил о нём у посредника. Последовал невразумительный ответ, из которого я понял, что тот человек вышел из дела.
Мой книжный двойник в своей гибели был виновен сам. Он всё сделал, чтобы стать знаменитым. А разгульным образом жизни только подпитывал свою славу. Я не стал повторять его ошибок. Книга мне была послана, видимо, чтобы предупредить об этом.
Я по-прежнему жил замкнуто. На люди без необходимости не выходил. Конечно, деньгами я воспользовался. Переехал в новую квартиру, купил машину, бросил работу. Я не мог себе отказать в том, о чём раньше и мечтать не мог – в дорогой одежде и аксессуарах. Есть у меня, оказывается, такая слабость. Но и здесь я проявлял осторожность – на шопинг ездил в другой город.
Работа мне давалась легко. Конечно, приходилось многому учиться. Свои первые мишени я тщательно изучал, следил за ними, определял привычки, маршруты движения. Сейчас, когда я уже профессионал, мне достаточно нескольких фотографий и словесного описания. За короткое время я не только освоил азы профессии, но и добился серьёзных успехов. Я никогда не стреляю издали – подхожу к мишени вплотную. Это считается верхом мастерства.
Знаете, многие боятся смотреть в глаза умирающему. Я смотрю. После выстрела в сердце смерть наступает не сразу. Человек ещё какое-то время видит и слышит. Я успеваю сказать ему пару слов. Пусть знает, кто стал его ангелом смерти. Ухожу, когда его зрачки расширяются. Отойдя, обычно оглядываюсь, чтобы рассмотреть свою работу издали.
Денег я заработал достаточно. Теперь я весьма обеспеченный человек. Сколько бы не прожил, мне больше не придётся заботиться о куске хлеба. Наконец, я смогу окончательно уединиться.
Я сообщил своему посреднику, что выхожу из дела. Он попросил меня напоследок выполнить ещё одну работу. Потому я здесь.
Зачем я вам всё это говорю? А мне вас жалко. Вы прячете взгляд, ваша одежда явно с оптового рынка. Этот серый капюшон… Стремитесь быть незаметным. Понятно – стесняетесь своей бедности, никчёмности. Как я когда-то. Я хочу вам помочь. Быть может, мой рассказ поможет вам поверить в себя, стать, как я, цельной самодостаточной личностью. Скажете, что я добился всего убийствами? Чепуха! Серьёзным людям наплевать на достоевщину, слезу ребёнка и всё такое. Политики убивают миллионами, а им за это памятники ставят. Каждому своё. Одним сужено жить, другим – умирать. А кто-то должен быть орудием судьбы. Почему не я? Или не вы. Как по мне, это даже честь!
Убивать просто. Вы увидите, как это происходит. Вы станете моим первым зрителем. Сюда придёт человек, и я его убью. Мне всё равно, кто он. Он – мишень, а значит, умрёт. Это неизбежно – я профессионал. Здесь удобное место – в это время мало народу, камеры наблюдения есть, но они не работают – хозяин экономит. Я выстрелю и уйду. Через полтора часа я уже буду на борту самолёта, и он унесёт меня туда, где шумит океан. Сюда я больше не вернусь. Остаток жизни я проведу, любуясь, как тёплые волны ласкают белый песок.
А вы делайте с этим, что хотите. Можете рассказать всем. Можете даже книгу написать, как господин Куликовский. Я ничем не рискую. Самый безопасный собеседник – это незнакомец, которого случайно встретил и которого больше никогда не увидишь.
Вот только мишень моя, похоже, задерживается… Непорядок. Так можно и на самолёт опоздать. Здесь один вход, и пропустить его я не мог. Я хорошо изучил его внешность. Видел фотографии. Правда, они были сделаны летом, а сейчас ноябрь… Среднего роста, серые глаза, сутулится… Одевается неброско, старается быть незаметным… Знаете, а вы чем-то на него похожи… Очень похожи… Послушайте… э-э-э… это… это вы...
– – –
После выстрела в сердце смерть наступает не сразу.
– Не распознать мишень – это непрофессионально, – сказал я, отвинчивая глушитель и пряча пистолет. – Когда вам предложили стать киллером, надо было отказаться. Это не ваше. Книга предупреждала именно об этом.
Уходя, я не стал оглядываться на сидящий за столиком труп.
Я никогда не оглядываюсь.
Днепр, ноябрь 2016
Скачать на телефон Купить книгуТо, что остаётся

Знаете, что самое страшное? Когда желания сбываются.
– – –
Я не совершаю немотивированных поступков. Впрочем, не один я. Немотивированных поступков, вообще, не бывает. Всегда имеется какая-то причина. Даже импульсивные поступки мотивированы. Мотивов немного: страх, похоть, алчность, желание славы. Доводы разума? Да, они могут быть мотивом. Но вот беда, разум не всегда срабатывает. Да, ещё альтруизм! Альтруизм тоже мотив, как ни странно.
Я привык свои поступки обосновывать. Меня к этому приучили в детстве. Что бы я ни сделал, мать требовала объяснений, почему я поступил так, а не иначе. Постепенно я научился сначала тщательно готовить обоснование и только потом совершать поступок. Это не раз спасало от долгих разговоров.
Должен объяснить, почему вы здесь, и почему я вам это рассказываю.
Вы здесь не для того, чтобы меня слушать. Впрочем, вы уже догадались. Только не знаете, кто я такой и каковы мои намерения. Скоро поймёте. В принципе, я могу всё сделать, ничего вам не рассказывая. Мне, вообще, необязательно с вами разговаривать. Без этого было бы даже лучше. Быстрее и без лишних страданий. Но я расскажу.
Во-первых, как я уже сказал, сначала я должен всё объяснить. Это мой принцип. Во-вторых, есть ещё один мотив, очень сильный. Наверное, это в наших генах – человек стремится поделиться с другими тем, что знает. Вы замечали, о чём говорят люди? Главным образом, обсуждают то, что узнали. Сами или от других людей. Желание делиться знанием столь же сильно, как и стремление к размножению. Я не исключение. Я испытываю острую необходимость поделиться.
Почему именно вы. Впрочем, как только я начну рассказывать, вы поймёте.
Теперь, собственно, история. Она короткая, в ней всего четыре эпизода.
Эпизод первый
Уже два года я боюсь спать. Только закрою глаза, вижу, будто это случилось сегодня.
Её тело, переворачиваясь в воздухе, взлетает над дорогой и падает головой вниз. Расплывающаяся по асфальту кровь. Я подбегаю – она уже не дышит, хотя глаза открыты, а руки ещё делают судорожные движения.
Я тогда отстал: нагнулся завязать шнурок. Она пошла без меня – как раз зажёгся зелёный.
Средь бела дня на пешеходном переходе… Если бы я не замешкался, успел бы оттолкнуть. Нелепо…
Звука тормозов не было. Он даже не пытался тормозить. И потом не подумал остановиться, даже увеличил скорость. Говорили, что остановился за углом, снял номера и поехал дальше.
В большом городе скрыться невозможно. Его нашли через двадцать минут. Рядом уже был адвокат его отца.
Собственно, на этом первый эпизод заканчивается.
– – –
Потом были следствие и суд. Бесконечный суд. Заседания постоянно переносились.
Что я, простой гражданин, мог противопоставить семье депутата? Адвоката, которого мне дало государство?
Когда суд отклонил заключение о том, что обвиняемый на момент происшествия был под действием наркотика, я понял, что нагло ухмыляющийся юнец, убивший мою жену, останется безнаказанным.
Я перестал ходить на суд. Находиться в том презрительно-равнодушном окружении было невыносимо. На меня никто не смотрел. Ни судья, ни прокурор, даже мой адвокат – никто. Я был всего лишь досадным обстоятельством, из-за которого им приходилось находиться в том угрюмом месте. Все были уверены в исходе.
О приговоре узнал от знакомых. За убийство собаки сейчас могут дать больше.
Вся Вселенная сжалась в одну точку, в одно желание.
Что делать, когда государство даёт понять, что ты ему безразличен? Можно замкнуться, уйти в себя. Или поднять шум, добиваться справедливости. Ни то ни другое не для меня – уж такой я человек. Есть ещё один выход – взять его функции на себя. Функции государства. В конечном счёте, это и есть мой мотив. Не месть сама по себе. Именно это – сделать то, чего не смогло или не захотело сделать государство – покарать убийцу.
В моём собственном суде я как обвинитель и, одновременно, защитник рассмотрел все обстоятельства дела, взвесил отягчающие и смягчающие доводы. Как жюри присяжных вынес вердикт. И, наконец, как судья подписал приговор. Справедливый приговор.
Теперь мне предстояло стать палачом.
Был ли я готов? Да. Когда убивают того, ради кого живёшь, ценность жизни убийцы сводится к нулю.
Вы скажете, что это самосуд. Да, согласен, это самосуд. Скажете, что это незаконно, это убийство. Окей, я не спорю. Скажете, что преднамеренно убить человека это смертный грех. Да, вы правы, убивать людей – грех. Вот только учтите одно обстоятельство. Тот, кто убил мою единственную, для меня перестал быть человеком.
Я продал дом, всё нажитое. Поселился в съёмной квартирке. Вырученных денег для моего замысла как раз должно было хватить.
Убивал ли я до этого? Нет, никогда. Я и курицу зарезать не сумел бы.
Чувствую, вы уже всё поняли. В вашем взгляде ужас.
Нет, не надо мне ничего предлагать. Не нужны мне деньги.
И угрожать не надо. Я давно никого не боюсь.
Пожалуй, я подожду…
Сейчас я подключу первую капельницу, и в вашу вену начнёт поступать транквилизатор.
– – –
Ну вот, теперь вы готовы слушать дальше.
На моём месте мог оказаться кто угодно. Вы тоже.
Представьте, что вы сейчас не здесь. Вы на том перекрёстке. Вспомните своего самого любимого человека. Такой есть у каждого. Теперь представьте: вот он лежит в луже крови. Умирает. Только что, минуту назад, вы разговаривали, он смеялся над вашей шуткой… А сейчас, в этот самый момент, вы слышите его предсмертный хрип, видите, как стекленеют глаза... Вы кричите, бьётесь в безумной надежде, уже понимая, что сделать ничего нельзя – это конец… Такой нелепый… Его убили только что, на ваших глазах. Какая-то мразь не удосужилась нажать на тормоз, потому что ваш любимый человек для него не более, чем собака на дороге. А потом те, кто обязан сделать всё возможное, чтобы убийца понёс наказание, не стесняясь вашего присутствия, делают всё возможное, чтобы он этого наказания избежал. Что вы будете делать? Наймёте адвокатов, станете писать жалобы, создадите страницу в Фейсбуке, будете выходить на улицу с плакатом, обивать пороги редакций? Флаг вам в руки – у нас демократия.
Или плюнете на всех и возьмётесь за дело сами?..
Каково тому, кто потерял любимого? Чувствуешь будто на тебя обрушилось всё содержимое ящика Пандоры.
Впрочем, зря я это вам говорю... У таких, как вы не бывает любимых людей.
Кстати, все знают миф о любопытной Пандоре, которая выпустила из запретного ящика бывшие там несчастья, но не все знают его окончание.
В ящике кое-что осталось.
Там была ещё Надежда. Когда несчастья ринулись к выходу, она отошла в сторонку, пропуская их. Надежда ведь всегда такая – вежливая, нерешительная… Когда же беды и горести вылетели наружу, чтобы люди навсегда забыли о счастливой беззаботной жизни, Пандора быстро захлопнула крышку, и Надежда навсегда осталась взаперти в том страшном ящике. Так распорядились боги. Они не захотели, чтобы Надежда досталась людям.
Вы, наверное, решили, что я психопат? Уверяю вас, это не так. Я нормален совершенно. Я не получил удовольствия от того, что сделал тогда. И не получу от того, что сделаю сейчас. Мой мотив продиктован доводами разума. Холодного разума.
Я стал следить за состоянием осуждённого. Информацию давал мой адвокат. Это была единственная польза, которую я смог от него получить.
Сразу после оглашения приговора те адвокаты, как и следовало ожидать, подали апелляцию. Потом ещё одну, потом ещё. Все жалобы были отклонены одна за другой. Происходило это не быстро, в течение долгих месяцев. Срок шёл, а осуждённый находился не в колонии – в следственном изоляторе. Жил не в общей камере на шесть человек, в которой из-за того, что тюрьма переполнена, живут двадцать несчастных.
Он проводил время в элитной камере. Вы, вероятно, слышали, что это. Эдакий пятизвёздочный отель посреди тюрьмы с кондиционером, телевизором, холодильником, набитым деликатесами, и душевой кабиной. В таких камерах сидят богатые постояльцы. Правоохранители не признают существование таких камер. Но они есть.
Когда была отклонена последняя апелляция, и осуждённого уже следовало этапировать в колонию, он вдруг сильно заболел. Разумеется, его тут же перевели в больницу. Тамошние врачи принялись его лечить. Лечили они его лечили, да так и не вылечили. Закончилось лечение тем, что было назначено судебное заседание для рассмотрения просьбы об освобождении в связи со смертельным заболеванием. На тот же день был куплен билет на самолёт в одну из стран, с которой у нас нет соглашения об экстрадиции.
Меня это устраивало.
– – –
СпрОсите, что я тогда чувствовал?
Ничего.
Вы удивлены? Думаете, я должен был люто ненавидеть? Так-то оно так, но… Вы не были в моей шкуре…Поверьте, ненависть – слабое чувство. Боль – сильнее. Моя боль была настолько сильна, что убила ненависть.
Что чувствует бомба, заложенная в автомобиль? Ничего не чувствует. Потому что она мертва. Мертва до того момента, когда на контактах её детонатора не появится электрическое напряжение. В этот момент она оживает. Её жизнь длиться всего какую-то миллисекунду. Но что это за жизнь!
Я расскажу вам об этом.
Бомба лишь кусок мёртвой материи. Несколько сотен граммов бризантной взрывчатки, в которую вставлен электродетонатор. Она способна только ждать. Ждать, когда её призовут к жизни. Сделать это может тот, кто её заложил, нажав на кнопку мобильного телефона, или тот, кому она предназначена, повернув ключ в замке зажигания.
Бомба оживает, когда на контактах электродетонатора появляется напряжение, и через его мостик накаливания начинает течь ток. Мостик раскаляется и поджигает покрывающий его воспламенительный состав. Жаркая вспышка подрывает заряд инициирующего взрывчатого вещества. Струя раскалённых газов с первой космической скоростью пробивает стальной корпус электродетонатора и врывается в массу бризантной взрывчатки, мгновенно повышая в ней давление до сотен тысяч атмосфер. От чудовищного сотрясения атомы углерода и кислорода в молекулах взрывчатки соединяются, образуя газы, нагретые до тысяч градусов, которые, стремительно расширяясь, с бешеной силой ломают металл, разрывают плоть.
Бомба пробуждается к жизни, чтобы тут же умереть, превратиться в облако газов и далеко разбросанные бесформенные осколки.
Жизнь бомбы длится ничтожную долю секунды. Что она чувствует?
Представьте, что эмоции, которые вы ощущали в течение всей вашей жизни, кто-то спрессовал в одну миллисекунду. Радость и горе, надежды и разочарования, любовь и ненависть – всё, что вы чувствовали на протяжении дней, месяцев, десятилетий – в одно мгновение. Скажете: это будет взрыв!
Вот именно!
Но я отвлёкся.
Пожалуй, пора подключить вторую капельницу. В ней мышечный релаксант. Он вас расслабит. Конвульсии мне не нужны.
– – –
Итак, был назначен день, когда осуждённый за убийство моей жены, ни отбыв ни дня настоящего заключения, выйдет на свободу и улетит далеко, чтобы нежиться в тёплых волнах и наслаждаться прелестями юных дев.
В тот день я должен был привести в исполнение мой приговор.
У меня была масса времени, чтобы подготовиться.
Как он должен умереть? Быстро без мучений, так ничего и не поняв? Или долго, испытывая физические муки, в полном сознании, отчётливо понимая неотвратимое приближение ужасного финала, ощущая смертную тоску от того, что больше никогда не будет ни ласковых волн, ни юных дев – вообще ничего, переживая отчаяние от такого близкого, но совершенно невозможного спасения. Меня устраивало второе. Понятие «милосердие» исчезло из моего кругозора.
Как я это сделаю?
Знаете ли вы, что правильно убить человека совсем непросто?
Смерть наступает тогда, когда умирает мозг. Надо или его разрушить, или прекратить поступление в него кислорода.
Первое меня не устраивало. Не потому, что выстрел в голову считается быстрой смертью. К слову, это совсем не так – даже с частично разрушенным мозгом человек может умирать долго, а может и вовсе не умереть. К примеру, Джон Кеннеди тогда, в Далласе, умер не сразу. После того как пуля снайпера выбила из его головы всё правое полушарие мозга на платье Жаклин, он жил ещё двадцать минут – дышал, у него двигались глазные яблоки. Меня не устраивало то, что человек в таком состоянии теряет способность осознавать происходящее.
Нужен был способ прекращения жизни, не вызывающий ни мгновенной смерти, ни потери сознания. Я должен был нанести непоправимый вред его организму, но так, чтобы мозг пострадал последним. Удушение, повешение, разрушение сердца, пересечение крупных сосудов, извлечение внутренних органов здесь не годились.
Я придумал такой способ. Он был ужасен! Но не беспокойтесь. К вам я его применять не буду.
Эпизод второй
Они всё разыграли, как по нотам. Осуждённый вошёл в зал судебного заседания, с трудом передвигая ноги, опираясь на руку конвоира. А вскоре и вовсе потерял сознание. Разумеется, была вызвана «скорая помощь». Врач, сделав укол, привёл его в чувство. Всё заседание осуждённый провёл, лёжа на носилках. После оглашения решения фельдшер и водитель «скорой» в сопровождении врача, адвоката, отца преступника и охранников вынесли носилки во двор суда. Там была короткая остановка. Толпе журналистов, вооружённых камерами и микрофонами, сообщили о милосердии нашей фемиды, освободившей из-под стражи несчастного смертельно больного. После чего носилки были задвинуты в фургон «скорой помощи».
Как только двери фургона захлопнулись, он вдруг рванул с места и за секунду скрылся, оставив во дворе суда свиту преступника и бригаду «скорой».
Ничто так не сбивает с толку, как униформа. Когда на вас форменная одежда, всем наплевать на вашу личность, вас не замечают, будь вы рабочий, официант или медик. Униформа переключает внимание с личности на общность.
Ни журналисты, ни охрана, не обратили внимания на рабочего в спецовке, который во дворе суда зачем-то красил недавно покрашенную стену. Когда прошумело, что заседание закончено, все были так озабочены занять удобное место, что никто не заметил, как рабочий, вывернув наизнанку спецовку, сел в кабину фургона.
Когда носилки вынесли из здания, никто не обратил внимания на то, что за рулём фургона сидел человек, которого там быть не должно было. Потому что на нём была оранжевая куртка сотрудника «скорой помощи».
Я рассчитывал перегрузить мою добычу в другой фургон, который ждал меня за пять кварталов на заброшенной алле старого парка. Прибыв на место, я вышел из кабины, открыл грузовую дверь моего фургона и уже собрался вытащить из «скорой» носилки.
И тут этот мерзавец сбежал.
Я открыл заднюю дверцу «скорой» и тут же получил удар ногой в лицо.
Когда я пришёл в себя, ни мерзавца, ни моего фургона не было.
Он весьма талантливо разыгрывал обессиленного доходягу. Настолько талантливо, что даже я поверил.
Вы заметили, что я избегаю называть его по имени? Как угодно только не по имени. Называя кого-то по имени, вы признаёте его человеческие качества. А для меня, я уже говорил, он перестал быть человеком.
Как и вы.
Эпизод третий
Мой объект мог двигаться только в одном направлении – в аэропорт. Почти не надеясь на успех, я сел за руль «скорой» и бросился догонять.
По моим прикидкам между нами была примерно минута. Учитывая скорость, которую способен был развить мой фургон, это километра полтора. Когда я выехал на трассу, его впереди не было, хотя дорога просматривалась на те самые полтора километра. Разумнее было прекратить преследование. Но я никогда не бросаю дело на половине. Это ещё один мой принцип.
Начатое я всегда довожу до конца. Чего бы то ни стоило. Это редкое качество – предмет моей гордости. Не все так могут. Большинство бросает на полдороги – не нравятся трудности или пропадает желание. Большинство, но только не я. Если чувствую, что не могу довести дело до конца, то просто не берусь за него.
Ещё в первом классе мать следила за тем, чтобы я выполнял домашние задания скрупулёзно, «от сих до сих». Малейшее проявление лени или пренебрежения наказывалось. Постепенно я и сам привык – не вставал из-за стола пока не были решены все задачи или не дописано сочинение. При этом отличником я не был. Меня никогда не хвалили, ставили четвёрки. Пятёрки получали те, кто как раз прилежанием и не отличался. Зато их любили учителя.
Я включил сирену и помчался по разделительной полосе.
Его сгубило то же, что и мою жену – его наглая самонадеянность. На подъезде к аэропорту, за двести метров от терминала он, объезжая автобус, выскочил на встречную полосу и ударил легковушку. Как и в прошлый раз, он, практически, не пострадал – ударился головой о ветровое стекло и потерял сознание. Водитель же легковушки, как я потом узнал, стал инвалидом.
На что он надеялся? Думал проскочить? Был уверен, что его пропустят, потому что все обязаны его пропускать? Или ему просто было наплевать на тех, кто с ним на дороге?
Я подъехал сразу после аварии, ещё до полиции. Опять сработал эффект униформы. Подбежавшие на помощь люди помогли погрузить мерзавца в мою «скорую». Никто не обратил внимания на то, что не было ни врача, ни фельдшера – один водитель и у того лицо в крови.
Зачем я рассказал вам этот малозначительный эпизод? Он короткий – каких-то пять минут – и выбивается их общей канвы повествования. Ну сбежал, ну поймал я его – это никак не повлияло на финал истории.
Эти пять минут стали для меня решающими.
Попытаюсь объяснить. Представьте, что вы строите дом. Не просто дом, не просто сооружение для жилья. Этот дом – вещественное воплощение вашей сущности, вашего «я», вашего эго, если хотите. Он – главное, смысл и итог вашей жизни.
В долгих яростных дискуссиях с самим собой вы решаете, каким ему быть: сколько этажей, какие должны быть комнаты, как он должен выглядеть снаружи. Вы рисуете эскизы, рвёте их и рисуете новые. Это должен быть не просто дом – это должен быть ваш дом! Единственный и неповторимый. Наконец, вы находите решение и садитесь за компьютер, чтобы бессонными ночами превратить идею в чертежи. Вы вычерчиваете планировку этажей, фундамент, стены, крышу, прокладываете водопровод, канализацию, электричество, интернет. Выбираете материалы для стен, перекрытий, кровли. Придумываете, какими должны быть окна и двери.
Потом, когда проект готов, вы приступаете к строительству. Руководите рытьём котлована, закладкой фундамента, возведением стен. Затем чуть ли не самое важное – внутренние работы. Обои, светильники, выключатели, дверные ручки – всё должно быть именно так, как вы задумали и никак по-другому!
И вот после стольких трудов и переживаний, когда всё готово и осталось только завезти мебель, в дом бьёт молния и на ваших глазах всё сгорает к чёртовой матери за пять минут!
Стоя на пепелище вашей жизни, вы шепчете: «Это всё сон, это происходит не со мной…». Вы крепко зажмуриваетесь и просите: «Ну пожалуйста, пожалуйста пусть будет чудо! Пусть я открою глаза, и всё будет по-прежнему! А я обещаю, я клянусь, что до конца жизни буду строить дома другим людям!». Вы открываете глаза, и – о чудо! – ваше творение перед вами целое и невредимое.
Так вот, эти эмоции – жалкое подобие того, что я почувствовал, когда увидел, что мой объект, которого я уже не надеялся заполучить, сам идёт ко мне в руки.
Но обещание тогда я дал. А обещания я всегда выполняю. Это тоже мой принцип.
– – –
Вы, наверное, заметили, что имя жены я тоже вслух не произношу. Не хочу осквернять его вашим присутствием. Оно для меня свято.
Она была для меня всем: моим светом, моим миром, смыслом моей жизни…
Теперь у моей жизни другой смысл.
Эпизод четвёртый
Нелегко будет об этом рассказывать. Но что поделаешь… Не рассказать нельзя.
В одном из отдалённых гаражных кооперативов я купил бокс. Оборудовал его.
Прежде всего, мне нужна была абсолютная звукоизоляция. Ворота и стены изнутри я обклеил минеральной ватой. Поверх неё прикрепил бумажные лотки для яиц – они отлично рассеивают звук. Я проверил – принёс музыкальный центр и на полную мощность включил «Рамштайн». Если специально не прислушиваться, снаружи ничего не слышно.
Внутри я установил старое кресло из парикмахерской. Хотел зубоврачебное, но нашёл только такое. Намертво прикрепил его к полу. Снабдил крепкими кожаными ремнями.
Мне ещё нужны были несколько медицинских приспособлений, кое-какие химические вещества и медикаменты.
Я продумал заранее каждую деталь. Составил список, который раз десять уточнил. Когда, было готово, несколько раз всё проверил и перепроверил. Мой дом я спроектировал тщательно.
Насколько я знаю, этот бокс так и не нашли. Если судьба снова забросит меня в тот город, смогу использовать его повторно.
Туда я привёз мой объект. Бокс достаточно большой – в нём поместился ещё и фургон «скорой помощи».
Ещё в дороге объект стал приходить в себя. Пришлось сделать остановку, чтобы его связать. И уже на месте, когда я пересаживал его в кресло, были попытки сопротивления. Тут мне пригодился электрошокер.
Я же говорил, что предусмотрел всё. У него не было ни малейшего шанса.
Когда он увидел мою звукоизоляцию, то понял всё. Сначала он, как и вы предлагал мне деньги. Много денег. Такие, как вы с ним, не в состоянии понять, что далеко не всё можно купить. Потом, наблюдая за моими приготовлениями, он угрожал. Кричал. Потом, когда осознание неизбежного проникло в его душу, стал плакать.
Я закончил приготовления и теперь терпеливо ждал. Мне надо было, чтобы он замолчал, и смог слушать.
Я убеждён, что приговорённый перед казнью должен осознать причины того, что с ним произойдёт. Он может быть с этим не согласен, но мотивы тех, кто сейчас прекратит его жизнь, должны быть ему понятны. Главное, ему следует разъяснить, что главный мотив – он сам, вернее, тот чудовищный поступок, который он совершил.
Недавно я прочёл статью. Автор задаётся вопросом: является ли смертная казнь наказанием? Казалось бы, ответ очевиден: да! У человека отнимают жизнь! Но позвольте, какой смысл состоит в наказании? Кого-то наказывают, чтобы он сделал выводы и в дальнейшем вёл себя правильно. Как это применимо к казнённому? Он уже никак не сможет себя вести. В этом смысле заключение в четырёх стенах до конца жизни куда более сильное наказание.
Такая логика мне непонятна…
Продолжим.
Наконец, он замолчал. Я, как и вам сейчас, подробно объяснил, почему он здесь и что сейчас с ним произойдёт. Потом приступил к приведению приговора в исполнение.
Я уже говорил, что решил сделать это, доставив приговорённому как можно больше страданий.
Сначала я ввёл ему препараты, поддерживающие работу сердца, чтобы он не умер раньше времени от болевого шока. Потом ввёл то, чем собрался его убить.
Его агония была ужасной… ужасной… ужасной…
Он умирал долго, часа два.
Сначала он кричал. Дико, истошно кричал.
Потом прекратил.
Он бледнел, краснел, его кожа покрылась кровавыми пятнами.
Его рвало, из глаз сочилась кровь.
Конвульсии были страшными. Крепко привязанный к креслу, он дико корчился, разрывая кожу и мышцы.
Всё это время я был рядом, заставляя себя смотреть.
Самое страшное – когда желания сбываются.
Разве его боль была сильнее моей тогда, когда он убил мою любимую?!! Разве его отчаяние было сильнее моего тогда, когда я видел, как смертная судорога сводит её руки?!!
Потом я закрыл ему глаза.
Знаете, какое было его последнее слово?
Он прошептал: «Мама…».
Тело я отвёз в «скорой помощи» к дому отца.
Разумеется, средства массовой информации разнесли новость. А как же – сенсация! Выпущенный на свободу убийца таки наказан! Просочились подробности. Подозрение пало на меня. Отец казнённого пообещал огромные деньги за мою голову. Я был готов. К тому времени у меня уже была новая внешность и новые документы. Меня не найти.
– – –
Меня не найти – я не психопат. Те подсознательно хотят быть пойманными – их и ловят. Во всяком случае, так говорят в кинофильмах про серийных убийц. Я не маньяк. Мои поступки продиктованы не патологией моего разума, а как раз тем, что он абсолютно нормален. Я действую трезво и осознанно. И не хочу быть пойманным. Поэтому меня не поймают. Когда я почувствую, что общество более не нуждается в моей помощи, я исчезну окончательно.
В тот же день я переехал сюда, в этот город. Нашёл спокойную работу, где не задают вопросов.
Вскоре я узнал о вас.
Вы, сын городского прокурора, на скорости сто двадцать километров в час спьяну протаранили «Жигули», в котором ехала семья: муж, беременная жена и их трёхлетняя дочь. Выжил только ребёнок.
Вы убили троих.
Потом всё повторилось. Другой город, другой суд, но опять издевательский приговор.
Я снова почувствовал себя снаряжённой бомбой.
И вот вы здесь.
Я не стану казнить вас так, как вашего предшественника. Не хочу ещё раз видеть это. Тот способ, признаю, был излишне жестоким. Тому есть оправдание – у меня была личная причина. В вашем случае её нет. Убитые вами люди мне никто. Поэтому вы умрёте легко. Считайте, что вам повезло. Способ, который я применил к вам, в цивилизованном мире признан гуманным.
Сейчас я подключу третью капельницу, и через несколько минут ваше сердце остановится. Вы умрёте. Здесь, в этом фургоне. За сотню метров от дома родителей.
– – –
Когда человек настолько болен, что не может сам за собой ухаживать, кто-то же должен ему помогать! Да, это неприятно, грязно, но необходимо! Наше общество нездорово. Оно неспособно самостоятельно очищать себя, удалять свои экскременты. Кто-то должен ему помочь.
Возможно, вас интересует, что я чувствую: раскаяние или, может быть, гордость?
Я не раскаиваюсь.
Знаете, что остаётся от бомбы после того, как рассеются газы и разлетятся осколки?
Ничего.
Пустота.
Днепр, зима 2018–2019
Скачать на телефон Купить книгуСтоянка поезда две минуты
Часть I

В этом городе поезда останавливаются всего на две минуты.
Я вышел из вагона и огляделся по сторонам. Освещённый жёлтыми фонарями перрон был пуст, лишь на скамейке, укрывшись старым пальто лежал бродяга. Пару секунд он, прищурившись, меня рассматривал. Но решив, что тридцатипятилетний мужчина в старых джинсах и поношенной ветровке интереса не представляет, закрыл глаза и поплотнее укутался в своё пальто.
За моей спиной, с тихим скрипом отпустив тормоза, тронулся поезд. Ещё была возможность вскочить на подножку и уехать из этого совершенно незнакомого города. Я даже сделал пару шагов. Но решение так и не созрело, а поезд уже набрал скорость.
Красные огни скрылись за поворотом, затих стук колёс. Я остался один.
За одноэтажным зданием вокзала в небе занимался рассвет. Ресничка луны проблёскивала сквозь тополиную листву. Внезапный утренний ветерок напомнил своей свежестью о том, что лето кончилось.
При входе в зал ожидания, в дверях я столкнулся с двумя парнями. Увидев меня, они переглянулись. Один спросил, который час. Я достал из кармана телефон и молча показал ему экран. Тот поблагодарил, и они ушли.
В зале ожидания было пусто. Рассовав по карманам необходимые мелочи и заперев остальное имущество в камере хранения, я устроился в пластиковом кресле. Некоторое время изучал висящее на стене расписание, к котором значилось всего шесть поездов. Потом накинул на голову капюшон и закрыл глаза.
Меня разбудили голоса. Открыл глаза: зал ожидания был наполовину заполнен. Входили всё новые пассажиры: пожилые тётки с набитыми кошёлками, студенты с рюкзаками и сумками, мужчины и женщины в простой одежде.
Раздался свисток – к перрону подходил пригородный. Толпа хлынула наружу, и вскоре зал опустел. Я вышел последним.
Город был маленьким. Он весь находился по одну сторону железной дороги. По другую были поля, на которых дозревали подсолнухи.
Главная городская улица начиналась у вокзала и состояла из пятиэтажных «хрущёвок» вперемешку с домишками частного сектора дореволюционной постройки.
Несмотря на ранний час движение было бойким – по дороге сновали машины, в основном подержанные, тротуары были заполнены спешащей публикой. Молодёжи было мало, преобладали пенсионеры.
Заприметив двух женщин с пустыми хозяйственными сумками, я направился следом за ними. Догадка оказалась верной – они привели меня туда, куда мне было надо – на городской рынок.
Продавцы только-только начинали выкладывать на прилавки свой товар, а народу уже было порядочно. Для местного населения рынок, видимо, был основным источником продуктов – в ярко освещённом супермаркете, витрины которого выходили на рыночную площадь покупателей было раз-два и обчёлся.
Ощутив аппетитный аромат, я вспомнил, что уже давно ничего не ел. Идя на запах, нашёл киоск с выпечкой и с удовольствием съел круассан, запив его обжигающим кофе у кофейни на колёсах.
Когда мой завтрак был закончен, рыночная площадь уже заполнилась. Пора было приступать к делу.
Я зашёл за пивной киоск, где меня не было видно, достал из кармана пачку купюр, разорвал бандероль и дождавшись порыва ветра, что есть силы подбросил деньги вверх.
– – –
Убранство ресторана отвечало провинциальным представлениям о гламуре начала девяностых. Впрочем, нет – люстры были новыми.
Я попросил официантку принести что-нибудь вегетарианское, чем вызвал её замешательство. В конце концов мы сошлись на салате и варениках с творогом.
В ожидании заказа я просматривал городские новости.
– Как вам наша пресса? – раздалось рядом.
Я поднял голову. Голос принадлежал девушке с ярко-рыжими коротко подстриженными волосами, в джинсах и обтягивающем свитерке, которая без церемоний уселась за мой столик.
– Предпочитаю обедать в одиночестве, – ответил я, откровенно разглядывая её формы.
– А вы не очень-то вежливы! – она нимало не была смущена.
– Не имею манеры навязывать свою персону, госпожа Александрова, и от других этого не терплю, – я отложил планшет.
– Почему вы решили, что я Александрова? – спросила девушка без удивления.
– Вы без спросу уселись за мой столик. Судя по манере говорить, вы привыкли быстро устанавливать контакт. Так себя ведут проститутки и журналисты. Для проституток ещё слишком рано, да и макияжа на вас мало. Следовательно, вы журналист. Сейчас я на вашем городском сайте. Там ваше фото, правда, неудачное – вы не очень-то на себя похожи. Вывод логичен – вы Ирина Александрова.
Она выслушала мои разглагольствования, не моргнув глазом.
– Меня зовут Арина. И спасибо за сравнение с проституткой. Вообще-то, быстро устанавливать контакт умеют и другие…
– Торговцы и бродячие проповедники начинают с заученных фраз.
– Ну-ну… Так или иначе, вам понятно, почему я здесь.
– Вас гложет любопытство. Плюс профессиональный интерес.
– Не совсем так. Мне надо с вами поговорить.
– Я уже сказал: предпочитаю обедать в одиночестве.
Она усмехнулась:
– Знаете, я немного понимаю в психологии. Так вот несмотря на то, что вы сегодня сделали, вы совершенно непохожи на человека, у которого много денег.
– На кого я похож?
Она посмотрела на меня в упор.
– На проходимца, который что-то задумал.
– Слабый из вас психолог, раз пытаетесь спровоцировать совершенно незнакомого человека.
– Не такой уж и незнакомый. Я знаю, как вас зовут и то, что вы приехали сегодня ночью.
– Зашли к подруге на вокзал, заглянули в компьютер – в билете мои данные. Мисс Марпл отдыхает!
– Знаю также, что эти имя и фамилия ненастоящие.
– Считайте, что у меня нет имени. Во всяком случае, для вас.
– Не боитесь, что на этом сайте или в другом месте появится заметка о подозрительном приезжем, который сегодня утром на рынке в буквальном смысле выбросил на ветер кучу денег. Он или сумасшедший, по которому психушка плачет, или преступник, который готовит какую-то пакость.
– Пулитцеровскую премию вам прямо под дверь подсунут.
– Думаете, такая статья невозможна?
– У вас доказательств нет.
– Доказательства можно найти.
– Записи камер наблюдения супермаркета. На них видно, как я захожу за киоск, а потом оттуда вылетают деньги. Так вот. На вашем рынке не работает в туалет. Это непорядок. Люди по нужде ходят кто куда. Например, за киоски. Ну и я, как все. А про деньги ничего не знаю. Какие деньги? Вы про что?
В её зелёных глазах вспыхнули огоньки.
– Правильно сделали, что сюда приехали. У вас язык, как помело. А у нас проблемы с дворниками. Заработок вам обеспечен. Будет, что на ветер выбрасывать. И в городе чище станет. Особенно за киосками.
– Забавная вы, девушка, Арина! Какая-то нагло-наивная.
– Какая-какая?
– Неважно. Кстати, вас опередили. Вот смотрите. На вашем же сайте. Страница только что обновилась.
Я протянул ей планшет. В верху ленты новостей был заголовок: «Осторожно! Заражённые деньги!». За ним шёл следующий текст:
«Сегодня, около 7-30, на городском рынке неизвестными лицами были разбросаны денежные купюры. У двоих посетителей рынка, подобравших их, вскоре резко поднялась температура и началась сильная диарея. Они было срочно доставлены в городскую больницу номер три, где госпитализированы с подозрением на тяжёлое инфекционное заболевание – холеру. Всем, кто прикасался к этим купюрам, необходимо взять их с собой и немедленно явиться для обследования в приёмное отделение третьей инфекционной больницы. Холера – крайне опасное заболевание, которое может привести к смерти!».
– Так вы, оказывается, террорист!
– Здесь ключевые слова «явиться вместе с купюрами». Купюры якобы отдадут на экспертизу – только их и видели.
– Хотите сказать, что про болезнь – это враньё?
– Такой диагноз за два часа поставить невозможно. Нужно сделать посев, подождать, пока вырастет культура.
– По-вашему, медики третьей больницы аферисты?
– Совершенно никудышные! Не надо было про температуру писать. Кроме пары-тройки ипохондриков к ним никто не придёт – у остальных она-то нормальная!
– Вот комментарий появился. Какой-то Михей спрашивает, как продезинфицировать деньги. М-да… наших людей не напугаешь… А знаете, всё равно статья появится рано или поздно. Это ведь сенсация – кто-то взял и выбросил кучу денег!
– Ну и что?
– Она разрушит ваши планы.
– Кто вас прислал?
– Никто. Я сама.
– Чего вам надо?
– Хорошо, скажу прямо. Статья действительно не при чём. Я пришла, чтобы попросить вас не делать в нашем городе то, что вы задумали.
– Сомневаюсь, что вам известны мои планы. Даже если и так, вам-то что?
– Город пострадает.
– Не мелите ерунды! Не знаю, что вы себе выдумали, но пришли зря. Кстати, как раз несут мой заказ. Или закажите себе что-нибудь, или уходите. Терпеть не могу, когда смотрят, как я ем.
– Ну что ж… Приятного аппетита… Я всё-таки не оставляю надежды вас уговорить. Мы ещё увидимся.
– Учебник по психологии скачайте.
Подошла официантка с подносом.
– С вами всё хорошо? – спросила почему-то она, ставя передо мной тарелки.
– Я в порядке. А почему вы спросили?
– Вы красный весь.
– Да меня разозлила вот эта…
Я огляделся – моей собеседницы нигде не было.
– – –
Не прошло и двух часов, как на городском сайте появилась статья госпожи Александровой. Её фантазия породила аж пять версий утреннего происшествия.
Сначала она предположила, что эти деньги просто кто-то потерял. К примеру, их сдуло ветром с прилавка какого-то неосторожного торговца. Но потом сама же эту версию и опровергла – деньги были подобраны бывшими на рынке людьми, и никто не пытался их у этих людей отобрать, чтобы вернуть потерю. Значит, если не были предъявлены права, деньги были не потеряны, а подброшены, и сделано это было умышленно.
Зачем кому-то понадобилось подбрасывать целую кучу денег? А их было немало – по оценке госпожи Александровой, которая вполне соответствовала истине, пятьдесят тысяч купюрами по пятьсот гривен. Простейшее предположение – они были важной уликой, от которой захотели избавиться.
Быть может, участники ограбления, спасаясь от полиции, чтобы уменьшить наказание, выбросили свою добычу? Но ни о каких погонях и, тем более, ограблениях что-то не было слышно.
Возможно, полиция напала на след фальшивомонетчиков, а те решили избавиться от изобличающих их доказательств. В таком случае все купюры или какая-то их часть должны быть фальшивыми. Тогда следует опасаться попадания их в оборот, так как рядовой гражданин вряд ли способен распознать качественную подделку.
Наконец, не следует отбрасывать холодящее душу предположение, что это всё тщательно спланированный теракт, и деньги, как утверждают в третьей больнице, действительно заражены. Тогда в ближайшее время следует ожидать введения в городе карантинного режима.
И, наконец, версия наиболее вероятная, по мнению госпожи Александровой. Деньги выбросил некий психопат, руководствуясь исключительно своими психопатическими мотивами. И потому ничего опасаться не надо, а бедняге следует немного подлечиться. Если у него, конечно, осталось на что.
За статьёй последовали комментарии. Менее, чем за час их количество перевалило за сотню. Лёжа на гостиничной кровати, я с наслаждением их перечитывал.
Примечательно, что версия о психически нездоровом человеке была совершенно оставлена без внимания. Всех без исключения комментаторов волновало, как бы доставшиеся им «на шару» купюры не оказались заражёнными или, того хуже, фальшивыми.
Вскоре сеть взорвала срочная новость. Некая гражданка П. семидесяти девяти лет утром подобрала на рынке три пятисотгривневые купюры. Тратить их не стала. Придя домой, почувствовала себя плохо. Внуки вызвали ей «скорую». Её госпитализировали в отделение интенсивной терапии третьей городской больницы, где несмотря на усилия врачей, через несколько часов женщина скончалась. Купюры, которые, по мнению, родственников покойной, были всему виной, отправлены на экспертизу.
После этого сообщения в сети началось что-то невероятное!
– – –
Я спал, и мне снилось, что я устал и хочу спать.
Я бродил по огромному зданию, полному людей, и искал, где бы прилечь. Но вместо кровати мне попадались прилавки с мясом, над которыми вились мухи. Бывшие тут люди его покупали, расплачиваясь туалетной бумагой. Продавцы отмеривали её деревянными метрами для ткани, отматывая от рулонов, висящих на шее у покупателей, и отдавали им куски мяса, завёрнутые в пятисотгривневые купюры. Все толкались, стремясь купить мясо без очереди. Я понимал: если не выберусь из толпы, то усну прямо здесь и меня затопчут. Но как я не силился выбраться, меня заталкивали в толпу всё глубже.
Я проснулся от того, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыв глаза, долго не мог понять, почему говяжья грудинка имеет такой странный золотистый цвет.
– Просыпайтесь! Сколько можно спать!
Тут, наконец, до меня дошло, кто передо мной.
– Какого чёрта? Что вы тут делаете? – пробормотал я.
– Вставайте! Полдевятого! – не унималась Арина.
Я сел на кровати, завернувшись в одеяло.
– Как вы сюда вошли? Это мой номер!
– Знаете, что вы натворили? – она проигнорировала моё возмущение. – В городе паника. Нигде не принимают пятисотгривневые купюры. Нигде! Ни в магазинах, ни на рынке. Все боятся заразы. Это ваших рук дело!
– Это всё ваша статья. Не надо было писать про смертельную болезнь.
– Статья не моя.
– Какая разница: ваша – не ваша! И вообще, идите отсюда – мне одеться надо!
– Можете меня не стесняться.
– Действительно, чего вы там не видели…
Я сбросил одеяло, встал с кровати и как был в трусах направился в туалет.
– Знаете, что говорят в третьей больнице? – сказала она из-за двери, когда я стоял над унитазом. – У тех двоих, которых вчера привезли с рынка, так у них и правда холера.
Я не ответил. Когда, совершив утренние действия, вышел из туалета, она с ногами сидела на моей кровати, что-то разглядывая в моём планшете. Она была бледнее вчерашнего, глаза покраснели, под ними были круги. Я отобрал планшет, положил на стол и стал одеваться.
– Вы случайно в меня не влюбились? Уж очень настойчиво преследуете.
– Перестаньте чушь нести! Слышали, что я сказала? У тех двоих холера. Диагноз установлен точно. А вы сказали, что его нужно несколько дней ставить!
– Я вам больше скажу: его заранее знали. На вашем рынке грязь и антисанитария. А врачи нет, чтоб заставить хозяев порядок навести, взятки с них берут. Теперь, чтоб это скрыть будут рассказывать сказки о заражённых купюрах. Вот вам тема для журналистского расследования: «Преступная халатность коррумпированных медиков». Займитесь этим и отстаньте от меня!
– Займусь. Обязательно. Потом. Сначала уговорю вас отказаться от вашей затеи.
– Не тратьте силы попусту – я на вас не женюсь.
– Да. Не женитесь. Это невозможно, к счастью.
– Не хотите уходить – не надо. Be my guest. Мой номер в вашем распоряжении.
Прихватив планшет, я выскочил в коридор и запер за собой дверь.
По дороге на вокзал я прошёлся по магазинам. Арина сказала правду –начиналась паника. В одном магазине висело объявление: «Купюры достоинством 500 грн. временно не принимаем. Приносим извинения за неудобства». Какой-то пенсионер, брызжа слюной и размахивая костылём, кричал, что банкомат выдал ему пенсию только такими купюрами, других денег у него нет, ему хлеб купить не на что.
Всё шло – лучше не придумаешь.
На вокзале я достал из камеры хранения мой рюкзак. Потом у меня было несколько встреч.
– – –
Между сиявшим красками собором и Домом культуры с осыпавшейся лепниной располагался большой сквер, называвшийся городским парком. Для середины рабочего дня здесь было удивительно много народу. По аллеям прогуливались мамаши с колясками, скамейки были заняты пенсионерами. Детская площадка напоминала визжащий разноцветный муравейник.
Я не удивился, когда, догнав, она поравнялась со мной.
– Не ожидали меня увидеть? – последовал вопрос.
– Не поверите – ожидал.
Мы пошли по аллее.
– Почему не спрашиваете, как я выбралась?
– Тоже мне загадка! Позвонили на рецепшн.
– Да, это простейшее объяснение.
Она плохо выглядела. Осунулась, глаза запали.
Вдруг что-то увидев, она, сойдя с аллеи, подошла к старому клёну, протянула руку. Через пару мгновений из листвы показалась белка. Замерев, она огляделась, потом быстро спустилась по стволу к протянутой руке. Арина осторожно погладила её пальцем между ушками, по спинке. Белка зажмурилась от удовольствия. Арина, казалось, не дышала. На её измученном лице застыло выражение благоговейного восторга. Пробежавший вдруг неподалёку ребёнок своим визгом спугнул белку, и та во мгновение ока скрылась в кроне дерева.
– Видели? Совсем ручная! – сказала Арина, вернувшись ко мне. – Где вы ещё таких увидите? Там, откуда вы приехали, есть ручные белки?
– Не уверен, что там они вообще есть.
– Вот видите… – она помолчала. – Как вам наш городок?
– Ничего… Народу мало, воздух чистый, вокруг сосновый лес. Мечта пенсионера.
– Не хотите здесь поселиться?..
– Да нет... Скучновато. Удивляюсь я вам, Арина. Молодая, красивая, разумная. С вашими способностями могли бы сделать карьеру в столице.
– Может быть, может быть… Была у меня такая возможность. Но знаете… В маленьких городках ведь тоже кто-то должен жить? Ведь так?
– Почему именно вы?
Она не ответила, снова о чём-то задумавшись.
– Допустим, мне здесь нравится, – сказала она вскоре очень серьёзно.
– Разрешите вам не поверить. Местечковый патриотизм более свойственен разуверившимся старым девам, чем молодой жизнерадостной девушке.
– Местечковый патриотизм… Зря вы так… Здесь много хорошего. Много такого, чего в большом городе днём с огнём не сыщешь.
– Да бросьте! Что тут хорошего? Сплошной примитив. Примитивные лица, примитивные мысли, примитивные интересы. Серость и тупость. Не жизнь, а прозябание. Каждый день одно и то же. От рассвета до заката, от рождения до смерти.
Она долго молчала. Потом сказала очень спокойно.
– Там, откуда вы приехали, убивают бродячих животных. Убивают зверски. Тысячами. Вы об этом знаете. Вам всё равно. В этом городе за несколько лет ни одно животное не погибло. Ни одно! Люди ссорятся, дерутся – уж таковы они, люди… Было даже два убийства. Но ни одно животное не погибло. Ни кошка, ни собака.
– Что ж такое в вашем городишке, что отличает его от других?
– Он – живой. У него есть душа.
– Душа? Не смешите!
– Не верите?
– Даже в детстве я не верил в Деда Мороза. Тем более, Библия говорит, что душу могут иметь только люди. А уж никак не неодушевлённые предметы, и тем более, целые города.
– Город – это место, где живут люди…
– Вот именно – место! Какая душа может быть у места? А собак у вас не трогают просто потому, что здесь их мало. Когда они расплодятся так, что страшно будет по улице пройти, когда в каждом дворе вас будет ждать злобная голодная стая, а городским властям на это будет наплевать, тогда вы первая станете разбрасывать отравленные сосиски.
– Не знаю, что и сказать…
– Да нечего вам сказать, потому что я прав.
Мы шли по аллее. Гуляющие на нас оглядывались кто с удивлением, к то с интересом. Почему-то смотрели только на меня. Новое лицо?
Помолчав, Арина сказала:
– Если честно, я знаю, зачем вы сюда приехали. Знала с тех пор, как вы ступили на перрон нашего вокзала. Я думала обратиться к вашим чувствам, но, как видно, чувств у вас нет. Поэтому я обращаюсь к вашему разуму. Откажитесь от вашей затеи! Пожалуйста! Я вас прошу! Она только кажется элегантной аферой. Последствия её могут быть катастрофическими.
– Могу допустить, что каким-то образом вам действительно известно, чего я хочу. Но я представить не могу, как моя невинная цель может привести к катастрофе.
– Трудно объяснить, но я попытаюсь… Времена сейчас непростые, сами знаете… Власти меняются, цены растут, жить всё труднее. Холера эта появилась неизвестно откуда. Люди напуганы, на грани срыва. А тут ещё вы со своими купюрами… Может случиться страшное, чего в этом городе никогда не было. Ваша афера станет последней каплей. Начнутся волнения, люди станут убивать друг друга.
– Бунт? Из-за каких-то купюр? Не смешите! Люди выходят на улицы, когда им жрать нечего. Я не вырываю у них изо рта последний кусок. Их реакции абсолютно добровольны. Повода бунтовать совершенно нет.
– Люди выходят на улицы не от того, что голодны, а когда чувствуют себя униженными. Они уже долгие годы терпят унижения. А тут ещё вы добавили. Это может стать последней каплей.
– Чушь! Бред!
– Город – не улицы и дома. Город – это люди, которые в них живут. Когда людям плохо, город болеет. Сейчас он тяжело болен. Если человек слабеет от тяжёлой болезни, его может убить даже ничтожный насморк. А вы и сеть тот самый насморк!
– Я насморк?! Ничего себе! С меня хватит! Не желаю выслушивать оскорбления двадцатилетней малолетки! Или, по-вашему, я похож на человека, который отказывается от своих замыслов? Ни от чего я отказываться не стану!
Я ускорил шаг.
– – –
На моём планшете закончились деньги. Я заглянул в единственный в городе компьютерный клуб, чтобы пополнить счёт через личный кабинет. Сделав это, я не смог удержаться и зашёл на городской сайт. То, что я там увидел, меня насторожило. Посещение сайта «Nomer.org» насторожило ещё больше.
В гостинице, проверив, хорошо ли заперта моя дверь, я забрался под одеяло и включил планшет.
На городском сайте мигал баннер: «СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!». Под ним был ролик с обращением городского головы. Мужчина в галстуке, неряшливо завязанном под не сходящемся на шее воротничком рубашки, с трудом скрывая растерянность, сообщил, что в связи началом эпидемии холеры принято решение закрыть город на карантин. В город никого не будут пускать, а из города – никого выпускать. В самом же городе будут развёрнуты пункты вакцинации, и все горожане, от детей до стариков, должны получить прививки. Голова призвал горожан проявить сознательность и терпение – карантин ненадолго, не больше недели. Далее следовал стандартный набор: опасаться нечего, власть делает всё возможное, и т.д. и т.п. В конце он заявил, что слухи о возможной связи заболевания с подброшенными кем-то пятисотгривневыми купюрами не соответствуют действительности. А отдельные работники торговли, которые отказываются принимать их у покупателей, тем самым совершая противоправный поступок, будут привлекаться к ответственности.
Спал я отвратительно. Просыпался от малейшего шума. Под утро таки заснул. Мне снилось, что я брожу по огромному зданию с множеством дверей. За каждой дверью – комната. В каждой комнате – окно во всю стену, через которое открывался вид на восхитительный морской пейзаж. Но выйти из здания, чтобы побродить по берегу, я не могу. Какую из дверей я бы не открыл – за ней оказывается очередная комната с окном. В панике я бегаю по зданию, открываю дверь за дверью, и мне всё страшнее.
Я проснулся с головной болью. Первым делом удостоверился, что в номере кроме меня никого нет.
День выдался хлопотным. Пришлось помотаться по городу, пообщаться с разными людьми. Но оно того стоило – к вечеру мой рюкзак наполнился.
Я сидел в пустом зале ожидания с рюкзаком на коленях и заранее купленным билетом в кармане, предвкушая, как сяду в поезд, уеду, наконец, отсюда и навсегда забуду этот городишко.
– Довольны собой? – раздалось рядом.
Её было не узнать: тусклые волосы с проседью, кожа, словно высохшая, слезящиеся глаза.
– Не заметил, как вы подошли.
– Вы многого не замечаете…
– Да, действительно. Не заметил, что вы не та, за кого себя выдаёте.
– Вы сами решили, что я журналист Александрова.
– Не разглядел фото на экране планшета. Вы просто на неё похожи. Только она старше лет на двадцать. И зовут её всё-таки не Арина, а Ирина. Я заглянул в базу данных. Арина – редкое имя. Женщина с таким именем в этом городе, вообще, не проживает. Вы кто?
– Речь сейчас не обо мне – о вас. Точнее, о вашей афере, которой вы так гордитесь. Разве вы не довольны собой?
– Да, доволен.
– Вы всё продумали хорошо. В маленьком городке люди доверчивы – панику посеять легко.
– Люди везде одинаковы. Просто в маленьком городке их легче контролировать.
– В чём же состоит их одинаковость?
– Всеми руководят страх и жадность. Хотите заставить людей что-то сделать – напугайте их хорошенько. Они для вас горы свернут.
– Как цинично… Чем же вы их напугали?
– Подбросил кучу денег. Люди боятся непонятного. Как можно выбросить такие деньги? Непонятно! Значит, что-то не так! Есть повод бояться.
– А дальше?
– А дальше – ничего. Я больше ничего не делал. Рассчитывал организовать пару слухов через сеть – не понадобилось. Ваши сограждане сами всё сделали. Та статья госпожи Александровой окончательно связала непонятные деньги с холерой. А ваш городской голова своим обращением только подлил масла в огонь. О таком я и мечтать не мог. У меня были другие варианты.
– Дальше просто – поднялась паника, продавцы отказались принимать пятисотгривневые купюры, а вы через валютных спекулянтов, которых наняли, скупили их по низкой цене.
– По четыреста пятьдесят.
– Вы подбросили пятьдесят тысяч, а с собой увозите пятьдесят пять.
– Намного больше. Люди продают не только мои купюры, но и вообще все пятисотгривневые. Это будет продолжаться ещё два-три дня. Я просто увожу свою долю.
– Боюсь, что не могу вам этого позволить…
– Понятно… Сколько вы хотите? Пятьдесят тысяч? Сто? Не стесняйтесь, чего уж там!
– Деньги для меня не имеют ни малейшего значения. Уж поверьте.
– Если не деньги, то что?
– Я вам пыталась объяснить… Ваша афера может иметь катастрофические последствия. Я хочу защитить от них город.
– Катастрофические последствия? Не смешите! Ну хорошо, о каких последствиях идёт речь?
– Скоро некий молодой человек продаст вашему спекулянту две пятисотгривневые купюры. Он поймёт, что всё это обман, и попытается вернуть деньги. Произойдёт драка, спекулянт попадёт в больницу, а парень – в полицию. Его друзья бросятся ему на выручку. Управление полиции окажется в осаде, а к утру все окрестные улицы заполнит возбуждённая толпа. Власти запаникуют и вызовут войска. Через несколько часов в наш тихий городок, где все всех знают, войдут чужие люди с оружием. Дальше – кровь… Город погибнет. А с ним погибну и я…
– Вы так уверенно об этом говорите…
– Вам лучше мне поверить.
– Хорошо. Пусть. Верю. Но я причём? Мне какое дело? Ваши горожане настолько глупы, что будут бунтовать из-за несчастной тысячи гривен? Их накажут и правильно сделают! А вы им так сочувствуете, что заболели из-за этого? Тут уж я точно не смогу помочь! Сходите в больницу.
– Доктора не в силах мне помочь… Я жива, пока жив город. Так сложилась моя странная судьба… Я знаю: вам на всех наплевать, сострадание и жалость вам незнакомы. И всё же я прошу вас: не убивайте город, не убивайте меня…
– Чушь несёте!
Она помолчала, переводя дух. Было видно, что беседа ей даётся с трудом. Потом продолжила:
– Знаете, мне не дано причинять людям вред. Даже самым гадким. Впервые за долгие годы я об этом жалею.
– И на это мне наплевать.
– Я поступлю по-вашему. Как вы говорите? Человека надо напугать? Скажите, вас сильно напугает лишение свободы?
– Собираетесь меня в тюрьму посадить?
– Нет, что вы! Там вы будете бесполезны.
– Чего ж вы от меня хотите?
– Остановите ваших спекулянтов. Пусть они прекратят скупку денег пока не случилась беда.
– Вы в своём уме? Понимаете, о чём просите? Это бизнес! Его так просто не остановишь! Машина запущена. Я и пытаться не буду.
– Не знаю… Никогда не сталкивалась с такой отпетой личностью. Хотя… зачем мне ломать голову? Вы изобретательный человек. Вон какую аферу придумали… А теперь придумайте, как ликвидировать её последствия. Пока вы это не сделаете, будете оставаться здесь.
– С какой стати? Это не моя проблема!
– В таком случае вы никогда не уедете из этого города! – сказала она твёрдо, её глаза вспыхнули зелёным пламенем.
– Только не надо угрожать! – ответил я, стараясь сохранить самообладание.
– Гражданин! С вами всё в порядке? – раздался голос.
Я поднял глаза. Рядом стоял патрульный, чуть позади – его напарница.
– Я в порядке. А в чём дело? – ответил я, ожидая худшего.
– Можно ваши документы посмотреть?
Я достал из кармана паспорт и протянул патрульному. Ответив на стандартные вопросы: фамилия, год рождения, место жительства, куда следую, я в свою очередь спросил:
– Какие ко мне претензии?
Патрульный вернул паспорт и, внимательно на меня посмотрев, сказал:
– Вы сами с собой разговариваете. Сначала мы думали – по телефону говорите. Потом увидели, что у вас нет гарнитуры…
– Я не сам с собой, я с девуш… женщиной разговариваю! – воскликнул я и повернулся к Арине.
Соседнее кресло было пустым.
– А куда?.. Вы не заметили, куда она ушла?.. – спросил я.
Патрульные переглянулись.
– Здесь не было никакой женщины, – сказала напарница. – Вы всё время разговаривали сами с собой.
– – –
Раздался стук колёс – подходил мой поезд. Схватив рюкзак, я выбежал на перрон.
Показавшись из-за поворота, поезд на полной скорости, не остановившись, проследовал дальше.
На моё возмущение женщина в форменной фуражке молча показала на объявление, приклеенное скотчем к двери в зал ожидания. Там было написано: «В связи с карантином, все поезда будут следовать через станцию без остановки».
Выбежав на привокзальную площадь, я бросился на автовокзал, находившийся тут же. Там не было ни одного автобуса, кассы были закрыты. Висели объявления о карантине. Ходили какие-то люди с респираторами на лицах и поливали всё дурно пахнущей жидкостью из садовых опрыскивателей.
Хотел было пойти голосовать на трассу. Но вовремя сообразил: если объявили карантин, вокруг города блокпосты. Выехать не получиться. Придётся ночевать здесь.
Переночую, а завтра выйду из города пешком, обойду блокпосты – только меня и видели!
Я вернулся в гостиницу. Меня поселили в тот же номер. Я запер дверь и на всякий случай подпёр её стулом.
Залез под одеяло. Честно пытался уснуть, но с улицы доносился какой-то шум, и сон не шёл. Встать и посмотреть, что там творится за окном не было сил. Наконец, уснул.
Мне снилось, что я иду по дороге. Ночь, холодно, дождь. Подхожу к развилке. Левая дорога ведёт к моему дому. Он совсем рядом, я вижу, как светятся его окна. Пойду налево и через минуту я в тепле. Но я решительно сворачиваю направо. Понимаю, что поступаю неправильно – по этой дороге домой я попаду очень-очень нескоро. Но вместо того, чтобы вернуться к развилке, я продолжаю уверенно идти вперёд, углубляясь в холодную серую мглу.
Мои окна отдаляются. Мне становится тоскливо, хочется оказаться дома за закрытой дверью. Я ускоряю шаг, перехожу на бег, бегу изо всех сил. Но чем больше стараюсь, тем медленнее мой бег – мои ноги вязнут в жидкой почве, проваливаясь по самую щиколотку. Серая мгла вокруг сковывает меня, не даёт двигаться, мешает дышать...
Я внутри плотного множества людей в сером. На их лицах нет глаз, лишь одни смердящие рты. Задыхаясь, изо всех сил я пытаюсь протиснуться между ними, но они обступают меня и сдавливают всё сильнее и сильнее…
– – –
Как буду выходить из города я продумал заранее: на маршрутке доехать до жилмассива на западной окраине, дальше с полкилометра по тропинке до садового товарищества, которое уже за городской чертой, за ним по балке до асфальтовой дороги от кладбища, пройти по ней километр до междугородней трассы, там поднять руку – кто-нибудь да подберёт. На всё про всё часа полтора–два. К вечеру думал быть уже дома.
Утром, рассчитавшись, я вышел из гостиницы. Небо было в тучах, накрапывал холодный дождь.
На улице было неожиданно много людей, в основном, мужчин, большей частью, молодых, даже подростков. Все шли в одну сторону – туда, куда надо было и мне. У некоторых были закрыты лица – платками, шарфами, медицинскими масками. Кое-кто нёс палку или другой тяжёлый предмет.
Надо было сразу изменить маршрут, держаться подальше от толпы. До точки выхода я мог добраться и другой дорогой. Но то ли спросонья не сообразил, то ли взяло верх любопытство – стало интересно, куда все идут, не связано ли это шествие с ночным шумом. Момент был упущен.
Моё любопытство скоро было удовлетворено – целью движения было трёхэтажное здание городского управления полиции. Судя по его виду, ночью здесь было побоище: окна разбиты, с некоторых сорваны решётки. Небольшая площадь перед ним была запружена людьми, которые были настроены решительно. Центром противостояния было маленькое пространство перед крыльцом.
Я оказался метрах в двадцати от места действия и, благодаря своему росту, всё хорошо видел. Страсти здесь были накалены не на шутку.
Подступ к крыльцу перегораживала шеренга полицейских в бронежилетах, шлемах, с дубинками и алюминиевыми щитами в руках. За шеренгой было несколько офицеров в фуражках. Старший, усатый полковник, что-то возбуждённо говорил в рацию.
Между толпой и шеренгой было пустое пространство в три шага. Из первых рядов толпы, что-то кричали полицейским, изредка бросали в них разные предметы. Я прислушался: требовали кого-то выпустить из участка, а кого-то другого посадить.
Усатый полковник спрятал рацию, поднёс ко рту мегафон и через головы подчинённых стал говорить, чтобы граждане перестали нарушать общественный порядок и покинули площадь. В ответ в толпе засвистели, в полицейских полетели камни. Один сбил фуражку с головы майора, стоявшего рядом с полковником. Тот побагровел, выхватил пистолет и с криком: «Пошли отсюда, быдло! Всех постреляю!» сделал три выстрела в воздух. Полковник выхватил у него оружие, но было поздно – слово «быдло» сработало, как запал у гранаты.
Толпа яростно бросилась на полицейских. У них вырывали щиты, били палками по шлемам, по плечам. Ни ответные удары дубинками, ни струи газа успеха не имели – неистовство нападавших только усиливалась. Одного паренька полицейского вырвали из шеренги, затащили в толпу, бросили наземь, сорвали шлем отобрали щит и дубинку и стали избивать ногами, его же шлемом.
Нескольким полицейским удалось сгруппироваться и, молотя во все стороны дубинками, пробиться к своему коллеге. Его подхватили под руки и, пятясь, занесли на крыльцо. Там стали оказывать первую помощь.
Схватка прекратилась также внезапно, как и началась. Раздались крики: «Скорую! Скорую!». Толпа, на сколько это было возможно, расступилась: на асфальте без движения лежал человек. Рядом, держась за голову, сидел другой. У него был рассечён лоб, кровь стекала на лицо, заливала глаза.
«Разойдитесь! Разойдитесь! Коридор! Сделайте коридор!» – раздались крики. Мужчина лет шестидесяти в камуфляжной униформе без знаков различия принялся расталкивать толпу. Ему стали помогать другие, и вскоре образовался живой коридор, по которому к пострадавшим поспешили медики из стоявшей на тротуаре «скорой помощи». Какие-то люди достали из неё носилки и катили следом. Осмотр продолжался недолго. Раненого осторожно подняли с асфальта, положили на носилки и повезли в «скорую». Разбитую голову женщина-врач перебинтовала на скорую руку, двое мужчин подхватили пострадавшего и повели вслед за носилками.
Между тем, мужчина в камуфляже теперь пробивал коридор в сторону полицейских. Ему и его случайным помощникам это удалось, хоть не без труда, и теперь по коридору несли избитого полицейского. Других носилок не было, и его несли, просто взяв за руки-ноги, двое его коллег и два человека с площади.
Первых пострадавших положили в «скорую», дверцы захлопнулись, и она стала выбираться из толпы, включив сирену. Ей вторила другая сирена – на площадь медленно въезжали ещё две «скорых». Первая сделала короткую остановку – забрала полицейского – и покинула площадь. Вторая «скорая» осталась на тротуаре.
Когда раненых вынесли, полицейские, стоявшие в шеренге, зашли в здание участка и перегородили вход щитами.
Увидев, что здание осталось без защиты, несколько молодых парней из толпы принялись крушить всё, что видели: били стёкла, срывали с окон уцелевшие решётки, один влез на козырёк над крыльцом и сорвал вывеску «Полиция».
Мне надо было уходить и как можно быстрее. Но площадь была маленькой, а народу было много, и он всё прибывал. Мои попытки пробиться сквозь толпу оказались безуспешными. Единственное, что мне удалось – защитить рюкзак, перевесив его со спины на грудь и обхватив руками.
Когда сомкнулся живой коридор, меня вынесло в первые ряды, и я очутился перед самым крыльцом, стоящим на вывеске «Полиция».
Между тем, нападавшие, выместив злость и поняв, что больше вреда полиции нанести не смогут, угомонились и теперь с молодецким видом прохаживались, помахивая отобранными у полицейских дубинками. Наступило затишье – из здания не доносилось никаких звуков, нападавшие пытались понять, что делать дальше.
Вдруг раздался нарастающий рокот. Вылетев из-за домов, над площадью пролетел вертолёт в камуфляжной раскраске. Где-то за городом развернувшись, он возвратился и завис над зданием участка. Он был так низко, что потоком от винта с моей головы сорвало капюшон ветровки. Повисев недолго, медленно пролетел над толпой и, набрав скорость, скрылся.
«Это разведка!», «Он нас снимал!», «С полным вооружением прилетел!» – заговорили в толпе.
Вдруг кто-то зычно крикнул:
– Романенко! Выйди к народу! Выйди, поговорим!
Голос принадлежал мужчине в камуфляже, который делал живой коридор.
Толпа притихла. Все ждали ответа.
Щиты за входной дверью раздвинулись, показался рупор мегафона:
– Уберите титушек, и я выхожу!
В толпе засвистели. Несколько мужчин из первых рядов принялись отталкивать подальше, насколько было возможно, парней с палками. Завязалась было потасовка, но мужчины были настроены решительно, и быстро оттеснили от крыльца всех хулиганов.
– Романенко, выходи! Не бойся! Никто тебя не тронет!
В одном из разбитых окон первого этажа появилась звуковая колонка, полицейский быстро выставил на тротуар стойку с микрофоном. Один из мужчин перенёс её на крыльцо. Рядом тут же оказался человек с телекамерой, на которой был логотип местного канала.
Щиты раздвинулись и на крыльцо вышел тот усатый полковник. Толпа встретила его криками и свистом.
– Сепаратных переговоров не будет. У меня нет секретов от народа, – сказал он в микрофон.
Ему навстречу поднялся тот, которые его вызвал.
– Ты знаешь, почему сюда пришли эти люди, Романенко. Что ты им скажешь на это?
Полковник выжал, пока не стихнет шум, и стал говорить в микрофон:
– Василь Григорьевич, ты меня знаешь не первый день. Ты помнишь, что мы с тобой прошли. Ты помнишь наших побратимов, которые в полях под Иловайском остались. За что наши пацаны жизни проложили? Чтобы прогнать с нашей земли врага и жить на ней не как раньше, не по понятиям, а по-людски, по закону. Так вот, Василь Григорьевич, я буду действовать строго по закону. По закону и никак по-другому. Этот пацан, из-за которого вы все здесь избил человека. До полусмерти избил. Тот сейчас в реанимации, и неизвестно выживет ли. И я его не выпущу. Я поступлю по закону. Как положено. Пусть суд изберёт ему меру пресечения. И это правильно. Это справедливо. Ты со мной согласен, Василь Григорьевич?
Тот ответил:
– Ты всё правильно говоришь, Павел Сергеевич. И про торжество закона, и про Иловайск… Да только не о том ты говоришь. Эти люди сюда пришли не задержанного, что у тебя сидит, освобождать. Если виноват – пусть отвечает. Ты ведь знаешь, из-за чего та драка произошла. Из-за того, что какая-то мерзота подбросила заражённые деньги, а потом под это дело скупила у людей по дешёвке все купюры по пятьсот гривен. Говоришь, мы кровь проливали, чтоб жить по закону? А выходит, таки живём по понятиям! Простой обманутый человек за решёткой, а твари, которые над людьми измываются, гуляют на свободе! И всё им с рук сойдёт, ни за что они не ответят.
– Ответят! Ответят! – воскликнул полковник. – И не только они! Все ответят! Каждый ответит за то, что совершил. И за сегодняшние безобразия вы тоже ответите. В этом городе массового хулиганства никогда не было и больше не будет. Я костьми лягу, а зачинщиков найду и накажу примерно! Этот случай у нас первый и последний!
На площади засвистели.
– Хулиганство? Народ, люди – хулиганы? – возмутился Василь Григорович. – Да люди до крайности дошли. Сколько лет с хлеба на воду перебиваемся! А жизнь всё страшнее. Цены растут, тарифы на коммуналку повысили. Хоть ложись и помирай! А тут ещё из-за холеры, что те мрази подкинули, город закрыли!
К микрофону вдруг пробрался какой-то мужичок. Он стал кричать полковнику в лицо:
– Я – хулиган? Я – преступник? Я в село к матери ехал, позвонили, что она больная, при смерти лежит, так меня не пустили! Она там помирает, а меня к ней не пускают! Что я такого сделал, что он в меня автоматом тычет! Что я сделал? Я всю жизнь, как проклятый, работал! Сорок пять лет у станка! – он повернулся к людям на площади. – За что? Чем я виноват? За что со мной, как со зверем?
Раздались крики: «Карантин отменяйте! Снимайте карантин, жить не на что!».
Мужичка уверенно оттолкнул пенсионер в серой твидовой кепке и с офицерской выправкой. Голосом человека, привыкшего выступать с трибуны, он стал говорить:
– Я вам скажу откуда это пошло! Это американцы! Это их агенты подкинули заражённые деньги! Зачем? Чтобы вам уколы делать. Под видом прививок от холеры вам наркотики колют, чтобы вы госдепу подчинялись, как бараны. Я это точно знаю. Вам про эпидемию холеры рассказывают? Кому вы верите? Хунте? Нет никакой эпидемии. Три человека заболело – это не эпидемия. Это всё происки американских империалистов! Их киевские наймиты здесь всё организовали…
Ему не дали договорить, под громкий свист бесцеремонно оттащили от микрофона и выпихнули из толпы.
Василь Григорович вернулся к микрофону:
– Павел Сергеевич, у нас половина населения в область на заработки ездит. Людей с той работы повыгоняют, а как им теперь жить? На какие деньги детей кормить? А ты, начальник полиции, ничего не делаешь, чтобы тех мразей наказать!
– Не делаю? Я не делаю? – вдруг вскипел полковник, – Зачем такое говоришь? Ты ж ничего не знаешь!
– Так ты расскажи! Расскажи, раз у тебя от людей нет тайн!
– Не всё могу сказать… Знайте, что открыто уголовное дело по факту мошенничества, и ведётся следствие, – в толпе зашумели, полковник подумал и продолжил. – Хорошо. Кое-что сказать можно, – он подождал, когда стихнет шум. – Выявлена организованная преступная группа, которая совершала мошеннические действия на территории города. Её члены установлены, двое задержаны и дают признательные показания.
«Расстрелять тварей! – раздались возгласы. – Кто это придумал? Кто у них главный?».
– Главаря мы пока не установили. Он не наш – гастролёр столичный. Имени его никто не знает, даже члены группировки. Известны только приметы: высокий, тёмные волосы, на вид лет тридцать пять – сорок, одет в джинсы и ветровку с капюшоном. При себе имеет рюкзак. Если кто видел такого человека, сообщите нам любым удобным способом. Мы его ищем.
– А чего его искать? Вот он стоит, – раздался спокойный голос.
Я повернул голову: на меня в упор смотрел какой-то человек. Приглядевшись, я узнал: это был тот самый бродяга, которого, сойдя с поезда, я увидел на перроне.
– – –
Я выхватил из рюкзака гранату, вырвал чеку и, зажав рычаг, поднял гранату над головой.
– Отошли все от меня! Отошли, быстро! Мне терять нечего!
Какой ни плотной была толпа, вокруг меня сразу образовалось пустое пространство. Во все стороны волнами разошлось слово «граната». Площадь притихла.
– Слышь, парень, ты, того, крепко держи, – сказал полковник. Он был белее мела.
– Сейчас я уйду, и никто за мной идти не будет.
Держа гранату над головой и оглядываясь по сторонам, я стал пятиться к тротуару. Толпа передо мной живо расступалась.
Сделав несколько шагов, я вдруг обо что-то споткнулся и едва не упал. Толпа шарахнулась, кто-то закричал. Чтобы сохранить равновесие, пришлось взмахнуть руками – гранату я не выпустил, но чека от неё, бывшая в другой руке, улетела далеко.
Василь Григорович двинулся было следом за мной, но полковник его оттолкнул и пошёл сам. Я сказал:
– Давай сюда ствол!
– Я без оружия, – ответил полковник.
– Лохам рассказывай! Кобура на ноге.
Глянув исподлобья на окружавших его людей, полковник присел, достал из-под штанины пистолет и вдруг направил его на меня.
– Не дури, полковник! Выстрелишь, отпущу рычаг, и тут будет десять трупов.
Поколебавшись секунду, он бросил пистолет на землю передо мной. Я его поднял, сунул в карман ветровки и продолжил движение.
Полковник осторожно шёл следом, говоря, что всё равно мне не уйти, лучше сдаться. За ним крался оператор с камерой. Мне было не до них – надо было контролировать окружающее пространство. Разоружить меня было проще простого – достаточно, подпрыгнув, сильно сжать руку с гранатой и повалить меня на землю. Воспользоваться пистолетом я вряд ли бы смог – скорее всего патронник был пуст, а передёрнуть затвор «Макарова» одной рукой невозможно.
Героев не оказалось, и я быстро дошёл до тротуара. Подойдя к стоявшей там «скорой помощи», открыл боковую дверь. Экипаж – пожилой водитель, женщина-врач лет сорока и молоденькая медсестра – были внутри. Все трое смотрели на меня с ужасом.
– Ты! – я ткнул пальцем в медсестру. – Машину водить умеешь?
– Есть права… – пролепетала та дрожащим голосом.
– Тогда садись за руль. А вы, двое, – я показал на водителя и врача. – Выметайтесь. Бегом!
Водитель и врач выбрались из «скорой» и трусцой бросились прочь. Медсестра замешкалась.
– Чего ждёшь? Особого приглашения? В кабину!
– Но я такое никогда не водила… Я на «Ланосе»…
– Бегом в кабину, дура! – заорал я. – У меня рука занемела, сейчас гранату выпущу!
Разговаривая с медиками, я на пару секунд выпустил из поля зрения полковника, а он успел подойти очень близко. Повернувшись, я молча сделал в его сторону выпад, он отпрянул. Свободной рукой я схватил медсестру за шиворот, выволок наружу и подтолкнул к кабине водителя. Пока она садилась, я обошёл машину и сел на пассажирское место.
– Заводи! Заводи, быстро!
Она дрожащей рукой повернула оставленный в замке ключ, завела двигатель и неуверенно тронула машину с места.
– Езжай вперёд, на вашу главную улицу.
Выехав туда, она спросила:
– Чего вы хотите?
– Вывезешь меня из города.
– У нас карантин. Вокруг города блокпосты. Там солдаты с оружием… Они не пропустят…
– Пропустят.
С минуту она молчала. Потом спросила:
– Почему вы взяли меня? Я же не водитель…
– Из-за этого, – ответил я и протянул к ней руку.
Она шарахнулась, машина вильнула.
– Не дёргайся!
Я вытащил из её волос заколку, зубами разогнул, вставил в отверстие запала гранаты, где раньше была чека, загнул конец. Разжав занемевшую руку, спрятал гранату в рюкзак. Достал из кармана пистолет, проверил – обойма была полной, патрона в патроннике таки не было. Вставил обойму, передёрнул затвор, направил ствол на медсестру. Увидев его, она вздрогнула и, пересилив страх, пролепетала со слезами в голосе:
– У меня дочка… два годика…
– Мне неинтересно.
– Она инвалид… у неё ножка…
– Мне всё равно. Наплевать на тебя и твою дочку. Ты просто кусок мяса, который ведёт машину. Смотри вперёд и крути баранку. Молча!
Я глянул в зеркало заднего вида: сверкая мигалками, за нами ехали три полицейские машины. Следом ещё одна – похоже, телевидение. Держали дистанцию, не обгоняли – заложница и граната весомые аргументы.
Я знаю нашу полицию – стрелять в городе они вряд ли решатся. А вот за городом... Там – солдаты. Им и стрелять не надо – выкатят на дорогу бронетранспортёр, четырнадцать тонн железа…
Впрочем… Без приказа военные и пальцем не пошевелят, а бюрократическая машина у нас работает небыстро. Пока полицейское начальство свяжется с их командованием, пока там сообразят, что делать, пока отдадут приказ… Минут десять–пятнадцать у меня есть.
– Дави на газ! Чего едешь, как мёртвая?!
– – –
Череп, обтянутый сморщенной кожей в старческих пятнах, волосы, как льняная пакля…
Я был, словно в моём сне: понимал, что это наваждение, надо просто отвести взгляд, и оно исчезнет, но продолжал на неё смотреть.
– Без семьи, без друзей, без сострадания, без совести, без имени… – сказала она едва слышно. – Да, так, наверное, легче жить. Легко жить, когда не перед кем прятать глаза… – она повернула ко мне лицо. – Человек, который меня расстрелял, тоже не смотрел мне в глаза. Он до сих пор жив. Сто четыре года… Никак не может умереть…
Я зажмурился.
– – –
– Не кричите на меня, пожалуйста… – медсестра вела машину, пригнувшись к рулю. По её лицу текли слёзы. – Вы… меня… убьёте?
– Будешь ехать медленно – убью. Дави на газ!
Она резко нажала на педаль, машину бросило вперёд.
На дороге было мало машин, зато много пешеходов. На центральной площади стояли два фургона и с красными крестами, к ним выстроились очереди. Люди заходили в фургоны и выходили оттуда, прижав к плечу руку с ваткой. Посреди площади стояло несколько человек с самодельными плакатами, на которых было написано: «Долой карантин!».
Главная улица заканчивалась на окраине, куда мы доехали минут за пять. За последним домом уже было распаханное поле.
Блокпост находился в метрах двухстах. Там был временный шлагбаум, перед ним площадка дезинфекции, засыпанная пропитанными обеззараживающим раствором опилками. У шлагбаума стояли два солдата в костюме химзащиты с автоматами на груди. На обочине была армейская палатка, за ней куча дров. Третий солдат там что-то готовил на костре. Ни бронетранспортёра, ни какой другой техники не было.
Увидев «скорую», солдат у шлагбаума что-то сказал остальным, снял автомат и направил его на нас. Второй перебежал дорогу и занял позицию в кювете. Третий бросил готовить, схватил свой автомат и залёг за дровами.
– Останови! Останови машину! – приказал я.
– Они будут стрелять… – прошептала медсестра и остановила «скорую». Полицейские сзади машины сзади тоже встали.
– Не будут, – сказал я. – Раздевайся!
– Что? Что вы сказали? – не поняла она.
– Я сказал, чтобы ты раздевалась! Раздевайся! – я приставил ствол к её виску.
– Как раздеваться?
– Полностью!
Дрожащими руками она стала снимать одежду.
– Можно я лифчик оставлю?
– Нет. Всё снимай!
Она сняла лифчик, прикрыла локтями грудь и вдруг посмотрела на меня прямо.
– – –
Она говорила, глядя будто сквозь меня:
– Была январская ночь. Дул пронизывающий ветер. Всё происходило при свете фар. Он выволок меня из машины и подтолкнул к яме. Другие стояли поодаль, глядя на происходящее безучастно. Помню, я сказала ему: «Надели бы шарф –простудитесь». Он выхватил пистолет и выстрелил мне в лицо. Сделал это одним движением. Одним привычным движением. Сколько людей убил этот человек… Много. Население небольшого города…
Я снова зажмурился.
– – –
– Езжай вперёд! – приказал я.
– Вы что не видите? Они будут стрелять! – воскликнула медсестра.
– Не будут! Не будут стрелять! Они не будут стрелять в голого человека!
– Они не видят, что я голая!
Ветровое стекло было в каплях дождя, через него действительно не было видно, что происходит в кабине. Изловчившись, я ногами выбил его.
– Теперь видят! Ну! Езжай! Вперёд!
В ней что-то изменилось. Теперь она смотрела на меня как-то уж очень спокойно, слёзы исчезли из её глаз. Молча, не торопясь, она положила руки на руль и тронула машину.
Когда солдат у шлагбаума смог разглядеть, кто сидит в кабине, он нерешительно опустил автомат.
Перед шлагбаумом медсестра остановила машину. Я достал гранату и показал её солдату.
– Открывай шлагбаум! – приказал я.
Солдат колебался. Вдруг зашипела его рация. Он приложил её к уху, выслушал, коротко ответил: «Есть!», шагнул к шлагбауму и открыл его.
– Не вздумай стрелять по колёсам! – крикнул я, высунувшись из окошка.
Солдат молча отошёл к обочине.
Метров через двести медсестра остановила машину.
– Всё. Я тебя вывезла из города.
– Ну и что? Езжай дальше!
– Нет! – сказала она решительно.
– Езжай! Пристрелю!
Она повернулась и посмотрела мне в глаза.
– Стреляй! Ну! Стреляй! Сюда стреляй! – она взяла рукой свою грудь и, приподнявшись, поднесла её к моему лицу. – Этой грудью я свою дочку кормила! Стреляй в неё! Стреляй! Чего не стреляешь? Солдат не стал. Ему нельзя в голую женщину стрелять. А тебе можно. Ты – стреляй!
Я словно оцепенел.
– Герой. С голой бабой воюешь… – она презрительно смерила меня взглядом. – Будь ты проклят!
Она вышла из машины и как была, в одних трусиках, пошла по дороге под проливным дождём.
– – –
Её глаза смотрели из глубины глазниц без осуждения, без отвращения.
– Я не виноват, что эти люди нищие! Не я у них всё украл! Не я самый большой аферист! Я всего лишь хотел заработать немного денег! – кричал я.
Ответа не было. Её глаза смотрели безучастно.
– – –
На меня ехал бронетранспортёр.
Он был во главе колонны, показавшейся из-за кургана на повороте дороги.
Я пересел на водительское сиденье и дал задний ход. Затем развернулся и, вдавив педаль газа в пол, направил машину в город.
Когда на полной скорости, миновав полицейских, я проезжал блокпост, солдат как раз начал растягивать на дороге «ежа». Мне удалось, опередив его, проскочить, и тут же сзади раздались автоматные очереди. По машине ударили пули, одна просвистела у меня над ухом.
Всего лишь час назад я был уверен, что сегодня лягу спать в своей постели. А сейчас возвращаюсь в город, где каждый знает меня в лицо, и все меня ненавидят...
Я лишился своего главного аргумента – заложника. Без него мой второй аргумент – граната – работал против меня. Теперь задача полицейских – не пустить меня с ней в город. Потому стрелять им надо только на поражение.
Соревноваться в скорости с полицейскими «Приусами» моя колымага не могла. Один из них быстро догнал меня, патрульный прицелился из пистолета прямо мне в голову.
Я отчётливо видел, как его палец нажимает спусковой крючок… из черноты ствола появляется медная головка пули… пуля выходит наружу, за ней раскрывается пышная огненная мантия…
– – –
Резко крутанув руль влево, я бью его в борт. От удара «Приус» выбрасывает в кювет, а мою «скорую» разворачивает поперёк дороги. В неё тут же врезается второй «Приус», в него – третий.
Я выхватываю гранату, выдёргиваю заколку и бросаю гранату за спину, в салон «скорой». Открываю дверь, выскакиваю на дорогу и «ласточкой» ныряю в другой кювет. Когда досчитываю до четырёх, грохочет взрыв, надо мной свистят осколки. Изо всех сил, как могу быстро, ползу по кювету, захлёбываясь грязной дождевой водой.
Проливной дождь, дым от горящей «скорой» служат мне надёжным прикрытием. Убедившись, что с дороги меня не видно, я поднимаюсь и иду через распаханное поле.
Всего лишь час назад я был уверен, что сегодня лягу спать в своей постели. А сейчас возвращаюсь в город…
Чёрт! Мне нельзя туда!
Я решительно поворачиваю направо.
– – –
Я бреду по жидкой грязи в тяжёлой от воды одежде. Местность начинает понижаться, и чем глубже в низину я спускаюсь, тем гуще становится окружающий меня туман. Звуки мира стихают и, в конце концов, пропадают совсем. Я иду в нереальной тишине, в которой звучат только мои размеренные шаги. Вскоре стихают и они. Вместе со звуками исчезают холод и усталость. Сколько времени прошло, я не знаю – может, час, может, год. В этом серой мгле время не имеет своей сущности. Мои ноги, или то, что мне представляется как ноги, сами по себе совершают движения, в результате которых я продвигаюсь вперёд. Впрочем, вперёд ли я продвигаюсь и продвигаюсь ли вообще, в окружавшем меня клубящемся ничто понять невозможно. Я и не пытаюсь. Зачем? Разве мне это интересно? Разве мне что-то интересно? Я давно уже не интересуюсь ничем и никем – зачем мне сейчас интересоваться собой? Что интересного в этом инертном сгустке сознания, затерявшемся посреди безучастного туманного марева? Чем он отличается от него? Цветом? Плотностью? Целью существования? Может, вся эта мгла – бесчисленное множество таких же, как я, сгустков, забывших своё «я», утративших свою самость?
Голоса… Нет, не голоса… Это марево проникает в меня своими щупальцами, каждое из которых кажется мне голосом. Что они говорят? Там нет слов, лишь понятия. Сознание, отравленное речью, не в состоянии их воспринимать. Я и не силюсь – на какие усилия способен бестелесный сгусток? Постепенно смысл пробирающихся в меня понятий доходит сам собой.
«У него нет души», – «Его душа в неведении. Она спит», – «Она умерла», – «Его чувства умерли, потому душа спит», – «Пусть идёт дальше, на самое дно. Там ему место», – «Надо вернуть ему чувства», – «Зачем?» – «Это пробудит в нём душу», – «А если нет? Чувства без души… Ты создашь монстра!» – «Надо дать ему шанс…» – «Ты заблуждаешься… но делай, как знаешь».
В окружавшем меня мареве что-то меняется. В нём намечается структура, появляется намёк на движение. Начинают доноситься голоса. Не призрачные – настоящие.
Часть II
Срезанный вверху овал. Вверху, где срезано, синее. Внизу, где овал, белое. Между ними два маленьких белых овала с тёмными кружками посередине.
Белые овалы с тёмными кружками – это что-то знакомое... знакомое… Вспомнил! Это глаза!
Глаза бывают на лице… Лицо… что такое лицо?.. Лицо это… это… это человек!
На меня смотрит человек… человек… Синее… белое…
«Больной! Вы меня слышите?».
Человек в синей шапочке и белой маске. Врач!
Женщина. Женщина-врач.
Что она делает в этом поле?
– – –
– Вы меня слышите? Как вас зовут?
– Где я?
– Вы в больнице. Как вас зовут?
– Как я сюда попал? Почему я здесь?
– Всё хорошо. Не надо волноваться.
– Где мой рюкзак?
– Какой рюкзак?
– Мой рюкзак! Со мной был рюкзак! Где он?
– Не надо так волноваться! Вам нельзя! Лежите!
– Где мой рюкзак? Мне нужен мой рюкзак!
– Не знаю я ни про какой рюкзак! Когда вас привезли, при вас ничего не было.
– Мой рюкзак! Верните мой рюкзак!
– Э! Э-э-э! Куда это вы? Куда вы собрались? Лежите! Вам нельзя двигаться! Лежите, кому сказала! Лежите! Ты гляди на него! Герой! Два часа, как от аппарата отключили! Света! Пять кубиков диазепама! Быстро!
– – –
– Вам уже лучше, больной?
– Где я?
– Вы в больнице, не волнуйтесь.
– Что я здесь делаю?
– Выздоравливаете.
– Выздоравливаю… Я болел?..
– Вас привезли с черепно-мозговой травмой.
– Вот как?.. В самом деле?..
– Вы помните, как это случилось? Вы можете что-то припомнить?
– Не знаю… Помню, бежал, потом шёл… долго шёл… по полю… в каком-то тумане… потом… потом голоса…
– Шли по полю в тумане. Допустим. А как вы попали на это поле?
– Сейчас, погодите… Я ехал в какой-то машине… был за рулём… кажется… Потом… полицейская машина…
– Полицейская машина?
– Полицейский в меня прицелился… и, кажется, выстрелил… Да, вроде выстрелил…
– Выстрел?.. Интересно... Ну-ну, продолжайте…
– Я сбил его в кювет… Потом бросил гранату… выскочил из машины и побежал по полю…
– Вы это хорошо помните? Я про гранату и про то, как вы бежали.
– Да, хорошо… Отчётливо помню. В деталях.
– Похоже, парамнезия… А что было до того? До того, как вы были за рулём.
– Погодите, дайте вспомнить… В голове туман… Я приехал в этот город… Потом тут началась холера и объявили карантин… Помню какую-то толпу на площади… кого-то били… Да! Был бунт. Люди были чем-то недовольны, собралась толпа и кого-то били…
– Холера? Кого-то били? Ничего себе! Что-то ещё можете вспомнить?
– Вспомнить?.. Мысли путаются… Всё, как в тумане…
– Ладно, отдыхайте. Вам надо поспать. Сейчас вам укол сделают.
– – –
– Доктор, что со мной?
– На вокзале на вас напали грабители. К нам вас привезли с проломленной головой, фактически, в терминальном состоянии. Мы вас сразу положили на стол и начали операцию. Взялись оперировать безо всякой надежды. Но вот, вы выжили… И даже разговариваете. В некотором смысле, это чудо.
– Напали на вокзале? Странно… Не помню такого… Я помню другое.
– Вам кажется, что вы помните. Это галлюцинации. Из-за травмы. Скажите, больной, у вас недавно был бред… Вы пытались разыскать какой-то рюкзак…
– Рюкзак… Рюкзак. Вспомнил! Мне нужен мой рюкзак!
– Успокойтесь, больной!
– Почему я не могу пошевелиться?
– Мы вас иммобилизировали, чтоб вы себе не навредили. У вас был приступ агрессии.
– Почему это окно зашторено?
– Чтобы прямые солнечные лучи вас не раздражали.
– Если у меня черепно-мозговая травма, почему голова не болит?
– Мы купируем болевой синдром. У вас катетер на руке. Видите?
– Почему вы говорите, что у меня галлюцинации? Я помню всё, что со мной было. До мельчайших деталей. Таких галлюцинаций не бывает!
– Тогда скажите, как вас зовут?
– Не уходите от ответа!
– Вот видите! Вы даже не в состоянии вспомнить собственное имя! Вы говорите о деталях? На самом деле вы не помните никаких деталей. Ваш поврежденный мозг их придумывает. Додумывает на ходу. А вы ему верите. Такова суть вашего расстройства.
– Хорошо. Пусть. Докажите мне, что это так.
– Как вам доказать?
– Дайте мне какой-нибудь гаджет, чтобы я смог войти в интернет.
– Интернет? Что вы! Вам ещё рано туда. Наш невролог не позволит.
– Я таки прав! Вы что-то против меня задумали!
– М-да… Сначала парамнезия, теперь ещё и параноидальные проявления… Хорошо больной. Давайте поступим так. Сейчас у нас обход, потом конференция. Потом я приду, и вы мне расскажете всё, что по вашему мнению вы вспомнили. И мы с вами вместе попробуем понять, что из этого правда, а что результат вашего состояния. Понимаете? Не я вам буду доказывать что-то, а вы мне.
– – –
– М-да… Не знаю, что и сказать… Вы уверены, что это с вами случилось именно в нашем городе?
– Абсолютно уверен!
– Удивительно! Но у нас этого быть не могло. Значит, это таки бред... Но какой последовательный! Логичная, связная история. Как будто это действительно было.
– Но это действительно было!
– Спокойней, спокойней, больной! Только не волнуйтесь. Понимаете… Как бы вам это сказать…
– Как есть, так и говорите! Со мной что-то не так?
– Видите ли… Всё, о чём вы рассказали… В действительности ничего этого не было. Ни стрельбы, ни гранаты. На нашем рынке и правда грязновато, но никаких денег там никто не разбрасывал. И никто не скупал пятисотгривневые купюры. И холеры у нас никогда не было. В нашей местности её вообще не бывает. А нападение на полицейский участок… Вообще, страшно слушать. У нас на редкость спокойный город, тихие вежливые люди. М-да… Не знаю, что и сказать… Похоже, это таки ложные воспоминания. Парамнезия. Вызвана, по-видимому, повреждением левой височной доли. И всё же… Вы точно всё рассказали?
– Всё.
– Извините, думаю, это не так. Вы ничего не сказали о своей роли в этой истории. Подозреваю: вы там главный герой. Иначе, почему полицейский в вас стрелял? Без этого мне трудно будет понять природу вашего бреда.
– Это не бред!
– Хорошо-хорошо! Не бред. Только не волнуйтесь – вам нельзя. Всё же, расскажите о себе.
– Знаете, доктор, я больше не хочу вам ничего рассказывать. Вы настроены предвзято. Вбили себе, что я брежу, и всё. Дайте мне возможность войти в интернет. Пока этого не будет, вы не больше услышите от меня ни слова.
– Ну-ну… Хорошо. Мне надо посоветоваться с коллегами. Если они будут не против, завтра я принесу ноутбук.
– – –
– Где обещанный ноутбук?
– Должна вас огорчить. Коллеги запретили категорически. Но есть приятная новость. Полиция нашла ваш паспорт. Смотрите сюда – он?
– Фотография моя.
– А фамилия?
– Мне нужно в интернет!
– Мы знаем, что вы инженер-строитель, приехали сюда в командировку.
– Из строительного бизнеса я ушёл.
– И самое приятное. Мы разыскали вашу жену Лилю.
– Я не женат.
– Понимаю, каждый женатый мужчина мечтает стать холостяком. Но тут у вас ничего не получится. Ваша жена узнала вас на фотографии и сейчас спешит сюда. Поверьте, я вас не обманываю.
– Я никому не верю. Особенно вам.
– Почему же?
– Доктор, почему вы всегда в маске?
– Здесь нельзя иначе. Это отделение интенсивной терапии.
– Снимите маску. Я хочу увидеть ваше лицо.
– Я же говорю: здесь нельзя без маски.
– Я хочу вас увидеть. Снимите, пожалуйста, маску.
– Зачем это вам?
– У вас знакомые глаза. Очень знакомые. Я вас раньше где-то видел.
– Это дежавю. Тоже, что парамнезия – следствие травмы. Мы раньше не встречались. Поверьте. Я бы запомнила.
– Пожалуйста, снимите маску!
– Ну хорошо… Только не волнуйтесь…
– И шапочку.
– Ну знаете! Вы меня толкаете на преступление…
– Снимайте!
– Хорошо, хорошо! Не волнуйтесь! Снимаю.
– Арина?!!
– Успокойтесь, больной! Света! Диазепам неси!
– Арина!
– Больной, успокойтесь! Я никакая не Арина. Меня зовут Елена. Елена Викторовна. Света! Бегом сюда!
– Арина! Ты же умерла! Ты мёртвая!
– Света! Бегом сюда!
– – –
Я вспомнил Лильку. Она такая же, как всегда. Говорит, говорит, говорит… Неважно, слушаю ли я. Оказывается, перед отъездом я забыл выпустить кота, и он нагадил за шкафом (у меня есть кот?). Наташку побил её бывший, вломился к ней пьяный и поставил фонарь под глазом (кто такая Наташка?). Опять не вывезли мусор – во дворе переполненные контейнеры (ну и что?).
Молчу. Изображаю на лице интерес – увидит, что мне всё равно, обидится. Зачем приехала? – спросил зачем-то, вырвалось. Сразу началось: тебе бы только меня не видеть! И пошло и поехало…
Это и есть моя настоящая жизнь? Мне предстоит в неё вернуться. К какому-то гадящему коту, незнакомой Наташке и вечно переполненным мусорным контейнерам.
Говорят, лисица, попавшая в капкан, чтобы вырваться, способна отгрызть себе лапу.
Доктор Елена считает, что те галлюцинации вызваны моей неудовлетворённостью окружающим. Есть, оказывается, у мозга такое интересное свойство – если его что-то сильно угнетает, он может просто сбежать в другую реальность.
На меня, похоже, напали те двое на вокзале, которым я сдуру показал телефон. Подошли сзади, когда я задремал в кресле, и ударили по голове. Я и понять ничего не успел.
Пока я был в коме, подсознание придумало мне другую жизнь. В той, придуманной жизни я нашёл силы послать к чёрту своё бесцветное существование и стать авантюристом, плюющим на всех и вся.
Как бы исхитриться дотянуться зубами до лапы…
– – –
Меня выписали. Реабилитацию я должен проходить по месту жительства. Сказали, что скоро встану на ноги, и эдак через полгодика всё будет, как прежде.
Ходить пока не могу, меня возят в коляске. Лилька возит. Толкает коляску, а сама сзади вздыхает. Не смотрит. Всё время, отвернувшись, с кем-то говорит по телефону. С той самой Наташкой?
Санитар закатил меня в микроавтобус-такси, чтобы везти на вокзал. Лилька села рядом в салон. Хотела с водителем, но тот не разрешил – с инвалидом должен быть сопровождающий. Доктор Елена помахала ручкой вслед.
Пока ехали по городу, убедился, что он совсем не такой, как в моих галлюцинациях. Дома не такие и машин на улицах много.
Вокзал я узнал. Он такой же.
Поезда ждали на платформе. Я – в коляске. Лилька – рядом на скамейке. Отвернувшись. В руках телефон.
Стал накрапывать дождь. Разболелась голова.
Объявили прибытие. Из-за поворота показался поезд. Подъехал. Остановился. Проводница открыла дверь и стала тряпкой протирать поручни.
Пройдёт всего две минуты, и я уеду в своё прошлое-будущее…
Всё вокруг как-то сразу потемнело.
– Где мой рюкзак?
– Какой рюкзак?
– Мой рюкзак!
– У тебя никогда не было рюкзака… Ты всегда ездил со спортивной сумкой.
– Мне нужен мой рюкзак!
– Успокойся! Я тебе куплю рюкзак! Только успокойся! Не трогай повязку, шов разойдётся! Успокойся! Господи! Что же мне делать? Помогите!
– – –
– Где мой рюкзак! Мне нужен мой рюкзак!
– Успокойся! Не трогай повязку, шов разойдётся! Успокойся! На! Держи свой рюкзак!
Страшно болит голова. Я сижу на грязных лохмотьях то ли в каком-то сарае, то ли в склепе. На кирпичных стенах плесень, с потолка дождём льётся вода.
Передо мной стоит нищий, которого я впервые увидел на вокзале, приехав в город, и который потом меня выдал. У него в руках мой рюкзак.
– На! Держи свой рюкзак! – он швыряет его мне на колени. – И давай вали отсюда! Это наше место!
– Не будьте столь жестоки, глубокоуважаемый Василий Илларионович! – раздалось сзади. – Молодой человек только очнулся, пролежав долго без памяти, а вы с ним так грубо.
Я поворачиваю голову. У задней стены, в нише, где, похоже, когда-то стояла статуя сидит мужичок в серой фуфайке и синей трикотажной шапочке с трилистником «Адидас».
– На фига он тебе тут нужен, Спиридон? Очухался и пусть валит! – возразил Василий Илларионович.
– Милосердней надо быть, милостивый государь Василий Илларионович! Милосердней! Кому-кому, как не нам с вами о милосердии радеть? Ибо говорил Господь наш Иисус Христос, стоя на горе перед народом: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
– Спиридон, ты знаешь, какую беду принёс этот гад в наш город?
– Знаю, сударь, знаю, что ему приписывают. Но при этом не забываю святые слова: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». И вам их помнить рекомендую. И ещё наш Господь говорил на той же горе: «Говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных», – он поднял на меня глаза. – Не пугайтесь его, молодой человек. Василий Илларионович только внешне суров. Внутри он кроток, аки агнец.
От его безмятежного тона мне стало спокойней.
– Где я? Как я здесь оказался? – решился, наконец, спросить я.
– У апартаментов, в которых мы с вами в данный момент находимся, юноша, печальная история. Знали эти стены и любовь, и радость, и горе безмерное, а также были они свидетелями страшного преступления. А попали вы сюда, будучи принесёнными нами с Василием Илларионовичем, в беспамятстве с огнестрельным ранением головы. Мы нашли вас совершенно случайно в поле неподалёку от этого места. Вижу испуг на вашем лице. Не стоит беспокоиться! Пуля прошла вскользь, разорвав кожу, не повредив кости черепа, но причинив вам сильнейшую контузию. Рану вашу я зашил, уж не обессудьте, обычной ниткой номер десять и голову перевязал. Да не смутит вас мой непрезентабельный облик. В юности, служа отечеству в должности военного фельдшера, я научился основам полевой медицины. Весьма неплохо умею обрабатывать раны с соблюдением всех правил асептики и антисептики, чем немного зарабатываю на жизнь, пользуя таких же изгоев, как и сам. Да будет вам известно, что пока вы были в беспамятстве, я даже делал вам уколы антибиотика. Обязан также сообщить, что в качестве платы за медицинские услуги, а также за аренду вами наших апартаментов мною была изъята известная толика содержимого вашего рюкзака. Но не тревожьтесь! Сумма эта для вас незначительна, ибо лишнего не взимаю по принципиальным соображениям. И ещё одно… Не обессудьте, молодой человек, но, к сожалению, мочевым катетером не располагаю, потому естественные отправления вы делали под себя. В связи с чем прошу вас немедля проследовать во двор нашего обиталища. Там есть ручей, в котором вы можете привести в порядок себя и своё облачение.
– Да! А то воняешь! – вставил своё Василий Илларионович.
Когда я вернулся, в «апартаментах» ярко пылал костёр. Воспользовавшись приглашением Амвросия, я разложил вокруг костра мокрую одежду, чтобы она просохла, а сам сел ближе к огню.
– Не побрезгуйте сим скромным угощением, сударь, – сказал Амвросий и протянул мне алюминиевую миску с каким-то варевом, оказавшимся удивительно приятным на вкус.
Пока я ел, Василий Илларионович сидел у костра, завернувшись в своё пальто и молча смотрел в огонь. Спиридон же без устали говорил:
– Видит Бог, вас, юноша, удивляет моё многословие, впрочем, как и присущая мне манера вести беседу. Да будет вам известно, что столь многословен я далеко не каждый божий день. Только очутившись в основании социальной пирамиды осознаёшь глубокую правоту знаменитого лётчика, поведавшего нам, что есть истинная роскошь. Сегодняшний же день выдаётся мне праздничным, ибо редко, смертельно редко Господь дарует мне возможность беседы с образованным человеком, коим вы, юноша, несомненно являетесь. Друг мой сердечный, Василий Илларионович, хоть предан мне, как и я ему, но, увы, весьма немногословен, как вы, наверное, уже изволили заметить. Потому, ваше нахождение в сём скромном обиталище, я расцениваю не иначе, как дар Божий, коего я, ничтожный, вряд ли заслуживаю.
– Вы говорили, что вы медик, – осторожно поинтересовался я.
– Отнюдь, юноша! Отнюдь! Был я фельдшером весьма недолго, лишь на армейской службе. После оной же бытие моё резко переменилась. А причиной сему был служивший в нашей части некий прапорщик с фамилией Латайко. Святой был человек! Его я почитал за отца, которого волею Всевышнего не знал. Бывало, говорил он на подпитии: «С таким именем, Спиридон, тебе две дороги: служить или с амвона, или со сцены. Выбирай сам». Как не послушаться уважаемого аксакала! Но какой же путь мне избрать? По молодости лет не долго раздумывая, перепоручил я сей судьбоносный выбор простой пятикопеечной монете чеканки тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Выпало идти на сцену, и, демобилизовавшись, уехал я поступать в театральное. Взяли, как ни странно. Отучившись, вернулся в наш городской драмтеатр. Не поверите – имел успех! «Спиридон Максименко!» – вот такими буквами на афишах! Однако, да будет вам известно, молодой человек, не только с Мельпоменой свела меня судьба. Был я знаком и с Каллиопой, и с Эрато. Не раз дерзал я брать в руку перо! Впрочем, плоды моего вдохновения достигали лишь очаровательных ушек мимолётных подруг, которых, по правде говоря, интересовали мои способности отнюдь не в царстве поэзии… – он помолчал, задумчиво глядя пере собой. – А потом постигла меня участь моего любимого героя, несчастного Лира – был я изгнан отовсюду. И из театра – пристанища моей души. И из однокомнатного приюта моего бренного тела. В чём причина? – спросите вы. Отвечу. Оковитая… Та же страсть меня сгубила, что и многих-многих моих собратьев по творчеству. Но не ропщу я. О нет! Не ропщу… Ибо это грех. Роптать... Если Господь, так решил… Значит, достоин я наказания за какие-то деяния мои или, того хуже, помыслы. Вас, быть может, удивит, что ставлю я помыслы впереди деяний. Но вдумайтесь! Так бывает: творит некто богопротивное, но при этом в помыслах дурного не имеет. Совершает же сие по незнанию или неразумению, а то и в порыве страсти! Грех? Безусловно! Но гораздо больший грех, если совершает он злое, заранее обдумав. И даже, если замыслил, но по какой-либо причине не совершил, всё равно грех, ибо одна только мысль – уже есть деяние!
– А ты, гадёныш, специально нам холеру подбросил или по неразумению? – вдруг обозвался Василий Илларионович, не отрывая взгляда от огня.
– Я не подбрасывал холеру, – ответил я, застигнутый врасплох. – Купюры были чистые. Холера пришла с другой стороны. Это просто совпадение.
– Врёшь ведь, гнида, – констатировал Василий Илларионович, впрочем, достаточно миролюбивым тоном.
– А я верю! Охотно верю вам, юноша! – с жаром подхватил Спиридон. – В беспамятстве вы бредили. Это нормально – находясь в опасности, мозг стремиться сбежать в иную реальность, менее травматичную. Мы дерзнули подслушать, о чём бредите, уж не обессудьте. Были там женские имена: некая Елена и некая Лилия. Понимаю так: это были ваши знакомые дамы, которые трогательно о вас заботились в той, вымышленной реальности, как делали бы и в нашей, истинной. Думаю, вы той заботы достойны. А по сему, сомневаюсь я, что вы умышленно призвали столь страшную беду на головы наших с Василием Илларионовичем сограждан. Ибо женщины, как мне подсказывает опыт, стараются избегать законченных негодяев.
– Вот тут ты врёшь, Спиридон! – вступил Василий Илларионович. – Бабы падки на всякую погань. Чем гнуснее, тем больше им по нраву. Они гнусь за силу принимают.
– Разумею я, друг мой задушевный, вам не терпится возобновить наш с вами давний спор о природе женской души, – сказал Спиридон. – Но прошу вас! Не стоит! Не при нашем госте, во всяком случае. Ибо знаю, чем сей спор закончится.
– Ага, не будем сейчас, – согласился Василий Илларионович. – Рыло я тебе всегда успею натрескать.
– Спасибо, друг мой! Нет границ вашей любезности.
– Ты всё говоришь, говоришь, Спиридон, два не о том ты говоришь. Ты ведь не дал мне его прогнать совсем не из милосердия. У тебя другое на уме…
– Тут вы правы, Василий Илларионович… Правы, как всегда… То всё присказка у меня такая была… И вот, к чему, молодой человек, – Спиридон замолчал и весь как-то подобрался. – Хочу я… То есть, мы с Василием Илларионовичем хотим задать вам один вопрос… Не возражаете?
– Задавайте, – ответил я.
Они переглянулись. Спиридон осторожно сказал:
– Будучи в бреду, юноша, среди прочего вы нечаянно упомянули имя Арина. Не значит ли это, что у вас есть или была знакомая с таким именем?
– Была, – согласился я.
Они снова переглянулись.
– Не в нашем ли городе вы с ней познакомились?
– В вашем.
– Это молодая девушка или пожилая дама?
– Сначала она была девицей, но почему-то быстро состарилась.
– Это она! – радостно воскликнул Спиридон. – Она жива!
– В последний раз, когда я её видел, она уже не подавала признаков жизни, – сказал я.
Те двое замерли. Посмотрели друг на друга. Василий Илларионович, не изменившись в лице, отвернулся к огню. Спиридон же стал раскачиваться, приговаривая: «Горе, горе…».
Раздалась мелодия «Интернационала». Василий Илларионович достал из-за пазухи «Айфон» и приложил к уху. Послушав с минуту, пробурчал: «Понятно. Ну давай…». Сказал зло:
– Захар звонил. Сказал, чтоб в город не ходили. Романенко сняли. Теперь главный мент – какой-то генерал. Не наш. Приказал зачистку устроить, – он спрятал телефон за пазухой. – Да… хороший был город…
Спиридон, кряхтя, поднялся со своего места и пересел к костру.
– Расскажу вам одну историю, молодой человек, – сказал он, оставив прежнюю велеречивость.
– Брось! Он отмороженный. Неинтересны ему твои истории, – заметил Василий Илларионович.
– Помолчи, Вася! – оборвал его Спиридон. – А вы меня послушайте, юноша.
Рассказ Спиридона
Жила давным-давно юная балерина. Танцевала в столичном театре и имела немалый успех. Да только карьера её была недолгой. Арина – так её звали – влюбилась без памяти в одного из своих поклонников – молодого помещика. После венчания тот увёз её далеко – в своё имение, бывшее в двух верстах от нашего города.
Сельская жизнь Арине понравилась. Здесь было тепло, свежий воздух, лес, речка с прозрачной водой, полевые цветы, белые облака в синем небе – всё, чего в северной столице не сыскать.
Но время шло, и Арина загрустила. Любовь любовью, но воздух, степь, пруд, цветы, облака – одно и то же изо дня в день, из месяца в месяц. К тому же ей не удавалось поладить с местным обществом. Её мысли об искусстве им были непонятны, а цены на зерно и городские сплетни её не интересовали. Она стала просить супруга вернуться в столицу. Он отнекивался, ссылаясь на трудности в делах, требовавшие его неотлучного присутствия в имении.
Арина затосковала. Целыми днями, сидя в опочивальне и перебирая старые открытки, листая журналы, она предавалась воспоминаниям.
Чтобы сделать ей приятное, супруг решился на рискованный в его положении шаг. Он объявил о званом вечере, на котором Арина должна была показать своё искусство.
Арина воспряла. Она бросилась к сундукам, где хранила сценические наряды. Увы! Многие из них уже были трачены молью, а другие не хотели на ней сходиться – семейная жизнь нанесла её фигуре некоторый ущерб.
Арина обратилась к местной модистке. Но та, обшивавшая провинциальных барышень, не знала, как угодить даме со столичными вкусами.
Пришлось Арине заказывать наряды в столице. Супруг же молча подписывал счета.
Месяц прошёл в усиленных занятиях – Арина возвращала былые навыки, учила местных музыкантов балетным мелодиям. Надо было подготовить к событию усадьбу – обновить мебель, украсить залы. Арина трудилась, не приседая. Супруг подписывал векселя.
И вот под конец Успенского поста усадьба засветилась огнями, к крыльцу один за другим подъезжали экипажи. Всем желающим увидеть Аринино искусство едва хватило места в большой зале.
Она станцевала все свои балетные партии. Она старалась, как могла. Но… Хоть выступление её встретили овациями и вызовами на бис, радости ей оно не принесло.
Танцуя, она видела похотливые взгляды мужчин, слышала завистливое перешёптывание женщин. Видела непроницаемое лицо супруга. Последнюю партию она танцевала, едва сдерживая слёзы.
Когда они провожали гостей, супруг, повернувшись к ней спиной, рассказывал им на прощанье что-то смешное.
Отчаяние Арины было таково, что она всерьёз решила свести счёты с жизнью. От петли её спасла простая женщина – горничная. Она, единственная, нашла слова, чтобы внушить ей нехитрую мысль: пора отпустить прошлое и жить дальше.
Осушив слёзы, Арина сложила свои наряды в сундуки и приказала отнести их в дальнюю кладовую.
Усадьба давно требовала внимания хозяйки. Господский дом нуждался в капитальном ремонте, печи коптили, сад зарос, в конюшне грозила обвалиться крыша. Было и великое множество мелких каждодневных забот.
Арина с головой погрузилась в хозяйственные дела.
Содержать большую прислугу они не могли, потому многое ей пришлось делать самой. Впрочем, ей, привыкшей трудиться у балетного станка до седьмого пота, это было совсем не в тягость.
Работая, Арина стала открывать для себя живших здесь простых людей. Сначала она их побаивалась. Они ей казались хмурыми, замкнутыми и даже диковатыми. Но присмотревшись, поняла: эти люди не умеют лицемерить. Они улыбаются только тому, кому рады, ценят трудолюбие и не прощают обид. Каждый из них умеет петь. Часами она могла слушать их песни. Пытаясь подпевать, она понемногу осваивала и их язык, который вначале принимала за причудливый диалект её собственного.
В каждодневных заботах прошли годы. Ноющая тоска по прошлой жизни утихла и превратилась в светлую грусть.
Между тем, дела имения шли хуже и хуже. Истратив последние средства на тот званый вечер, её супруг так и не смог поправить своё состояние. А тут ещё война началась – крестьян стали забрать на фронт.
За войной пришла революция. Однажды из города приехали какие-то люди в кожаной одежде. Они собрали крестьян и стали им внушать, что те теперь свободны и ничего не должны своим эксплуататорам. Между делом намекнули: в других уездах крестьяне жгут имения и вешают помещиков вместе с жёнами и малыми детьми. И за такое сейчас не наказывают, а наоборот, это даже геройство.
После того разговора крестьяне жечь имение не пошли, но стали обходить его стороной.
Как-то супруг Арины сказал, что ему надо в город, чтобы решить какое-то дело, сел в тарантас и уехал. Больше его не видели. Куда пропал – неизвестно и поныне. А вскоре приехали те люди – в кожанках. Без спросу войдя, они объявили Арине, что её усадьба – дом и все постройки – реквизированы новой властью. А она как представитель класса эксплуататоров пусть уходит, куда хочет.
Оставшуюся в одночасье без супруга и крова Арину в своём домике, стоявшем на пригорке, что на городской окраине, приютила та женщина, её горничная, которая к тому времени получила похоронки на мужа и сына.
Как жили и выживали две одиноких женщины? Известно как – тяжело работая. Где-то через год приютившая её женщина умерла, и Арина осталась совсем одна.
Ей повезло – в городе открыли новую школу. Образованных людей осталось мало и ей предложили стать учительницей. Тем паче, что хоть она и бывшая помещица, но происхождением не дворянка – из мещан.
Арина, никогда не представлявшая себя учительницей, вошла в класс не без робости. Но дети рабочих оказались смышлёными, хотели учиться. Глядя в их доверчивые глаза, Арина впервые за много лет почувствовала себя нужной.
Новому делу она отдавалась полностью, как некогда балету. Долгими часами просиживала за тетрадками, терпеливо втолковывала тугодумам, наставляла нерадивых.
Не имея своих детей, к ученикам она относилась, как к родным. Обижать их никому не было позволено. Даже родителям. Если надо, приходила домой, чтобы вразумить гулящую мать или приструнить распускавшего руки отца.
Слава о мудрой учительнице разошлась по городу. Все знали, что в домик на пригорке, всегда можно прийти со своей бедой. Его хозяйка выслушает и поможет добрым советом. И не только. Бывало даже, что учительница ходила к властям, чтобы, например, попросить помощь для бедствующей семьи. Ей не отказывали.
Однажды к её калитке подъехал автомобиль. Из него вышли двое – мужчина и женщина. Хорошо одетые, образованные. Зайдя в дом, они сказали Арине, что в губернском городе открывают театр. Её, бывшую солистку Императорского балета, приглашают поступить на службу – балетмейстером-репетитором.
Перед Ариной, словно небеса разверзлись. Забытое прошлое вспыхнуло ярким светом, будто солнце в просвете туч.
Она заметалась по дому, собираясь в дорогу. Вещей у неё было мало, потому сборы были недолгими.
Выйдя, чтобы сесть в машину, она взглянула на город, который с её пригорка был весь, как на ладони. Она увидела купола собора, ярко сиявшие в лучах закатного солнца, стены строящегося Дома культуры. И крыши, множество крыш… Под теми крышами жили её ученики.
У неё защемило в груди.
Опустив на землю узелок с вещами, она извинилась и сказала, что никуда не поедет.
Люди заметили, что с тех пор, как в городе поселилась Арина, бедствия стали обходить его стороной. В летнюю жару загоралась сухая трава в степи, случались пожары, от которых выгорали целые сёла, но в город огонь не заходил. Горожане, как и везде, болели, но серьёзных эпидемий не было.
Количество добра и зла в нашем мире неизменно. Если кто делает что хорошее людям, то должен за это заплатить. За своё добро учительница Арина заплатила страшную цену.
Появился у неё ученик. Звали его Лёней. У мальчика была, что называется, светлая голова. Уже в пятом классе он решал задачки, которые не каждому десятикласснику были под силу. Всё время он проводил за книжками. Не смотря на весьма юный возраст, читал их на разных языках, которые сам же и осваивал. А книг у Лёниного папы было много.
Радости Арины не было предела – за годы, что она учительствовала такое чудо ей встретилось впервые. Мальчик был особенный, и решила она учить его не как других детей. Заниматься с ним стала отдельно, хоть школьному начальству это не нравилось. Впрочем, вряд ли это можно было назвать обычными занятиями. Легко ли учить ребёнка, который к тринадцати годам книг прочёл больше, чем учитель? Они просто беседовали. О жизни, о людях, о книгах…
Однажды утром, придя в школу, Арина увидела, что с доски почёта почему-то исчезла Лёнина фотография, осталась лишь пустая рамка. Она спросила у коллег в учительской, в чём дело. Ей не ответили, все враз отвели глаза. А вскоре в актовом зале собрали общее собрание.
Взойдя на трибуну, директор школы сказал, что в их городе была разоблачена подпольная группа затаившихся врагов народа, которые готовили заговор с целью убийства советских руководителей и самого товарища Сталина. А Лёнин папа был там главным. И он, директор, кается в том, что не проявил бдительность, вовремя не распознал вражескую гадину, хоть и он, и все видели, что их ученик высокомерен, замкнут, держится особняком, чурается одноклассников, избегает участвовать в общественных мероприятиях. Всё это не что иное, как результат враждебного, антисоветского воспитания. И теперь коллектив школы обязан осудить Лёниного папу и самого Лёню и оказать всемерную помощь органам в дальнейшем разоблачении вражеского гнезда. Но первым осудить своего папу должен сам Лёня.
Классная руководительница, взяв за руку, вывела красного заплаканного Лёню на сцену, сорвала с него пионерский галстук и силой поставила за трибуну. Все в зале замерли. Лёня постоял, хотел было что-то сказать, но расплакался.
Арина не выдержала. Она выбежала на сцену и, закрыв собой несчастного мальчика, и стала говорить. Говорила, что Лёня странный, держится особняком не потому, что враг, а потому, что он особенный, способный, уникальный, на три головы выше других детей. Его надо не мучить, не заставлять наговаривать на своего отца, им надо гордиться, его надо беречь, потому что такие дети – это гордость не только родителей, школы, но и всей страны. И она ни за что не поверит, что Лёнин папа враг. Как, вообще, такое можно говорить? Ведь все знают, что это порядочный, добрейший, интеллигентнейший человек! Весь город у него лечится. Да что там город! Учителя и сам директор школы его пациенты.
Тут директор грубо её оборвал, сказал, чтобы уходила со сцены – она выступать не записывалась. Арина спустилась в зал. На трибуну один за одним стали подниматься другие учителя и некоторые ученики. Говорили, что положено про Лёниного папу, а потом, не сговаривались, набрасывались на Арину. Всё ей припомнили: и сколько времени она уделяла этому «интеллигентскому выкормышу», пренебрегая детьми рабочих, и то, как читала на уроках стихи всяких антисоветчиков, и про её помещичью молодость тоже не забыли.
А потом Арина пропала. С утра, как обычно не вышла в свой садик. Обеспокоенные соседи зашли в её дом. Все окна и двери там были открыты настежь. Ни самой Арины, ни двух её кошек не было.
Говорили, что ночью у её дома останавливалась машина. Было слышно, как хлопали дверцы. Говорили также, что потом со стороны её бывшего поместья доносились выстрелы. Нашлись отчаянные головы, которые втайне обыскали те развалины. Но ничего там не нашли.
Люди не хотели верить, что Арины больше нет. Шёпотом стали говорить, что она жива. Просто живёт в каком-то отдалённом месте. Но и оттуда продолжает оберегать город. И действительно: Арины нет, но беды, как и при ней, обходят город стороной.
Говорят, что временами она появляется. Но каждый раз в другом облике. Иногда это зрелая женщина, иногда – юная девушка. Она приходит, чтобы отвести беду. То попросит отдыхающих в лесу затушить костёр, то успокоит буйного пьяницу. А как угроза минует – она снова скроется до времени.
Старые люди и сейчас искренне верят, что этот город особенный – у него есть душа. И душа эта – Арина. Пока она жива, с этим городом ничего страшного случиться не может. Но если, не дай бог, город погибнет, умрёт и она.
– – –
Пока он говорил, мои вещи высохли.
– Как там у греков называлась девица, которая жила в дереве? – сказал я, натягивая джинсы. – Дриада. Душа дерева – дриада. Срубишь дерево – умрёт дриада. А тут, значит, душа города… Полиада, что ли? Вы пытаетесь меня убедить, что та девица, которая навязывалась мне в собеседники, и есть мифологический персонаж Арина. Не на того напали! Я на такое не ведусь!
– И, главное, зачем? Моя персона ценности не представляет. Кто я? Бывший инженер, бывший предприниматель. Аферист-любитель. Деньги, что в моём рюкзаке – сумма, значительная только для меня. Устраивать ради неё целое представление? Проще подослать парочку гопников.
– Я же ей предлагал! Не взяла… Ну да – хотела всё.
– А сделано было неплохо… Она всегда появлялась незаметно, будто ниоткуда. Также незаметно исчезала. Копы её, вообще, не видели… Впрочем, она им, наверное, заплатила… Ну да, конечно! А говорят, что новая полиция не берёт!
– Актриса она талантливая! Так имитировать прогрессирующий недуг! И грим идеальный – увядшая кожа, ранняя седина – не придерёшься.
– Или это не грим? Она и вправду считала себя той самой Ариной? Психопатка…
– А-а-а! Я понял! Вы это придумали! Ясно! Вся эта история – просто выдуманная вами сказка! Иначе, откуда вы всё это можете знать? Вы – бомж! Откуда вы знаете все эти подробности? Откуда вы знаете то, что было чёрте сколько лет назад?
Спиридон прервал меня.
– Откуда знаю? От того самого мальчика Лёни, от Леонида Осиповича, то есть – сказал он спокойно. – Мы с ним как-то в больнице лежали, в одной палате. Я из той больницы вышел, он – нет. Люди, знаете ли, не склонны перед смертью байки рассказывать. Тогда, в тридцатые, его отца, расстреляли, а их с матерью выслали за Урал. Лёня выжил. Через двадцать лет вернулся домой, в этот город. Учительницу, женщину, которая, единственная, заступилась за него в тот трагический час, он забыть не мог. Вот и разузнал её историю. Даже в Ленинград ездил, что-то там в архивах искал, что уцелело. Да и кроме того… Знаете… архивы, конечно, можно сжечь… Но память людская – она-то не горит. Или фактически, или легендами народная память хранит многое …
– Чего стараешься, Спиридон? – вдруг вступил Василий Илларионович. – В глаза ему посмотри. Люди сволочами становятся кто по глупости, кто в силу обстоятельств. Этот скурвился по убеждению. Зря ты его спасал. Надо было оставить подыхать, а бабло поделить.
– Знаете, молодой человек, за что мой друг, Василий Илларионович, достоин уважения, а с моей стороны даже любви? – спросил Спиридон. – За то, что он злой, но совсем не злобный. А коли он и злится, то злость его часто оправдана. По сему не вижу оснований оспаривать его мнение по вашему поводу.
– Что вы от меня хотите? Зачем это представление? – спросил я.
Помолчав, Спиридон сказал:
– Знаете ли, молодой человек, где мы с вами находимся? Эти убогие развалины – всё, что осталось от Арининого поместья. Да-да! Сюда её привёз супруг из столицы. Здесь испытала она своё недолгое счастье, здесь ярко вспыхнула и стремительно погасла её надежда, здесь она встретила лихолетье. Здесь же её и убили. Где-то здесь находится безвестная могила, в которой покоятся бренные останки. Где-то здесь… Знать бы, где именно…
– Что вы от меня хотите? – повторил я.
– Впрочем, подозреваю, где... – сказал Спиридон задумчиво, словно меня не слыша. – Видел я здесь однажды некоего старичка… Знаю, кто он… кем был тогда… Уж он-то точно должен знать…
Спиридон замолчал, глядя на огонь. В его глазах плясали кровавые отблески.
Я открыл было рот, чтобы ещё раз задать свой вопрос, но Спиридон меня опередил.
– Надо спасать город, юноша, – сказал он холодно.
– Тьфу! И вы о том же!
– Я бы вас убил юноша, если бы от этого был какой-то толк. Уж поверьте. Но вы нужны живым.
– Вы тут клялись в любви к своему другу. Что ж вы его не слушаете? Он же сказал, что я стал таким по убеждению. Значит, другим я уже не буду!
– Здесь вы неправы, юноша. Друга моего, любезного Василия Илларионовича, я как раз и слушаю, ибо мнением его весьма дорожу. Если бы он счёл, что вы просто глупы, я и разговаривать с вами не стал. Но в том-то и дело, что по его оценке, которой я, повторяю, весьма дорожу, вы стали таким по убеждению. Следовательно, вы разумны. Следовательно, если вас кто-то или вы сами себя сумели убедить в чём-то, то вполне возможно убедить вас в обратном.
– Одна уже пыталась.
– В вашем голосе слышны нотки подростковой бравады. Верный признак душевных колебаний. Осмелюсь предположить, что вы уже близки к осознанию ошибочности парадигмы вашего нынешнего существования.
– Ну всё! Мне надоело, – я вскочил на ноги и надел ветровку. – Большое спасибо, что умереть не дали. Как я понимаю, плату вы взяли сами, и я вам ничего недолжен.
– Желание сбежать – естественная реакция. Однако должен призвать вас не торопиться, но подумать. Ибо вряд ли вы покинете этот город.
– Это почему же?!
– Видите ли, юноша… Надо быть незаурядной личностью, чтобы изменить привычный ход жизни многих людей. Вы такой – вам удалось. Вы перевернули наш город. В свою затею вы вложили душу – вот и результат. Но и город не остался в долгу. Он вынул из вас эту душу, вывернул наизнанку и выставил на обозрение. Куда ж вы теперь от своей души-то сбежите?
– Да что вы говорите!
– Понимаю. Картина нелицеприятная. К тому же, очевидная всем и вам, в том числе. Сейчас вам не бежать отсюда надо, а думать, как спасти город. Спасёте город – спасёте душу.
– Не верю я в сказочки о спасении души.
– Если бы вам сказали, что ваша затея приведёт к такой катастрофе, вы бы поверили? Хотя, подозреваю, Арина пыталась вас отговорить. Призываю вас теперь поверить мне. Это всем пойдёт на пользу и вам в первую очередь.
– Слова, слова, слова… Вижу, вы любитель поговорить. Разговаривайте лучше со своим другом. Не буду вам мешать.
– Присядьте, юноша! Вы не можете отсюда уйти!
– И кто же мне помешает?
– Я! – воскликнул Василий Илларионович.
– – –
– Господи! Да что ж это такое! Когда это кончится? Что ты со мной делаешь? Что ты за человек такой? Сколько я с тобой мучиться буду?..
Вонь кулака Василия Илларионовича в носу смешивается с больничными запахами. Я открываю глаза.
Та же палата, куда я попал в первый раз. У кровати причитает Лилька. Рядом доктор Елена. В этот раз без маски. Её лицо непроницаемо.
– Начальник твой звонит каждый день по три раза, – продолжает Лилька. – Я ему уже сказала, что ты домой едешь, а ты снова устроил!.. Тебя же уволят! На что мы жить будем?..
– Это посттравматическое, – решает вступить Елена. – Подержим его на седативах – за пару дней пройдёт. Любой переезд – это стресс. А тут ещё после травмы. Не переживайте, всё будет хорошо. Вот, он уже в себя пришёл. Как вы себя чувствуете, больной?
– Где мой рюкзак?
– Ну вот, опять! – всплёскивает руками Лилька. – Что за рюкзак? Какой рюкзак? Откуда рюкзак? Он всю жизнь с сумкой ездит!
– У него точно нет рюкзака? – осторожно спрашивает Елена.
– Да нет! И не было никогда! Он их терпеть не может.
– Больной, как вас зовут? – спрашивает Елена.
– Где мой рюкзак?
– Похоже, вернулось маниакальное состояние, – Елена расстроена. – Тут седативами не обойдёшься. Придётся подержать его здесь недельку.
– Неделю? – переспрашивает Лилька в ужасе.
– Как минимум.
– Господи! А мне что делать? Это ж столько денег!.. А если его не попустит?
– Будем думать. Соберём консилиум. Может быть, придётся перевести в другую больницу.
– В какую? – Лилька понижает голос. – В дурдом?
– Это решит консилиум. Поймите, теперь это не по нашей части. Мы сделали всё, что могли. Его мозг не настолько повреждён. МРТ показало, что серьёзных последствий травмы нет.
– А несерьёзные?
– Вы же сами видите…
–Боже-боже-боже… – снова начинает причитать Лилька. – Тебя уволят… Мне и так надеть нечего, в одном рванье хожу. Сколько можно? Наташка на лето то в Турцию, то в Италию ездит, а я, как последняя дура, в Бердянск! Боже-боже…
За открытой дверью палаты вижу движение. Санитар катит каталку, на которой лежит нечто накрытое простыней. Накрыто неплотно – выглядывают полы знакомого пальто.
– Василий!
Я сажусь на кровати. Кружится голова – падаю на подушку.
– Лежите! Вам нельзя вставать! – кричит Елена и бросается ко мне.
Отталкиваю её и снова сажусь. В этот раз удаётся сохранить равновесие.
– Василий Илларионович! Погоди!
Встаю, держась за спинку кровати. Отталкиваю Елену. Делаю два шага к двери и останавливаюсь, опершись рукой о косяк. Перед глазами всё плывёт. Когда через пару секунд головокружение проходит, санитара с каталкой уже нет.
Поворачиваюсь к Лильке.
– Тебе денег не хватает?! Так заработай! Целыми днями по телефону болтаешь! Двенадцать лет терпел, как идиот!.. Иди к чертям собачьим! Ты меня достала! Идите все к чертям собачьим! Вы все достали! Работа эта достала! Жизнь эта достала! Вся эта реальность достала! Мне надо туда! Лучше сдохнуть там, чем гнить здесь! Спиридон! Василий! Хочу к вам! Я буду спасать ваш спасти город! Как же… как же это раньше было?.. Надо, чтоб по голове…
Я шагаю вперёд и изо всех сил бью головой в дверной косяк.
Успеваю только услышать, как Елена кричит: «Света! Быстро звони в реанимацию! Тут черепно-мозговая!».
– – –
– Переборщил ты, Вася.
– Да нет… глазные яблоки вроде забегали. Сейчас в себя приходить станет.
В носу знакомая вонь.
– Сколько я провалялся? – я открыл глаза и сел.
– Минут двадцать, – ответил Спиридон.
– Да-да, и там прошло столько же.
– Где – там? – спросил Спиридон.
– Там… короче, долго объяснять. Хотя, знаете, что скажу, уважаемый? А я верю в вашу историю с Ариной. Вот так вот – резко, взял и поверил. Почему нет? Если я нахожусь внутри собственного бреда, то почему покинувшая меня совесть не может приобрести вид красивой женщины?
– Что пендель животворящий делает! – воскликнул Василий Илларионович.
– Не смейся, Вася, – заметил Спиридон. – Как-то уж очень резко он переменился. Не повредил ли ты в нём чего?
– Ничего он не повредил, – сказал я.
– Соблаговолите… э-э-э… пояснить, молодой человек, природу столь резкой перемены, – произнёс Спиридон.
– Объяснить? Зачем? Мир надо воспринимать таким, каким он есть. Не стоит пытаться ни понять его, ни изменить. Это ещё никому не удалось.
– Неглупо сказано, юноша, весьма неглупо… Этим вас осенило, пока вы были… э-э-э… там?
– Можно и так сказать.
– Ты только это придумал? – спросил Василий Илларионович. – Или ещё что полезное?
– Готов подумать о том, как спасти ваш городишко.
– Э-э-э… то вы упорно отказывались, а то вдруг загорелись… – сказал Спиридон. – Соблаговолите всё же пояснить.
– Любопытство гложет?
– Осторожность. Жизнь, знаете ли, приучила. Непонятное – опасно.
– Хорошо, я поясню, раз просите. Хоть вы и не поймёте.
– Сделайте одолжение. А мы уж поднатужимся…
– Хочу остаться здесь. Здесь. В своём бреду. Почему? Реальная жизнь опостылела. Здесь я натворил гадостей? Меня ненавидят? Плевать! Там я никто. Рядовое серое невзрачное никто. А здесь я в центре событий. Более того: здесь я и есть источник событий. Хочу таковым и оставаться. Там, понятное дело, меня будут лечить, сделают всё, чтобы вытащить отсюда. Постараюсь им это не позволить. Вот, всё. Объяснил.
– М-да… Я таки в нём что-то поломал, – пробормотал Василий Илларионович. – Извини, Спиря…
– Вынужден согласиться с моим другом, молодой человек. В вас что-то здорово изменилось. И это настораживает, – произнёс Спиридон. Подумав, сказал: – А не соблаговолите ли назвать своё имя?
– Не соблаговолю.
– Да нет, всё нормально. Целый, – удовлетворённо констатировал Василий Илларионович. – Это всё волшебный пендель. Надо было врезать, как только с он поезда слез. А мысль была…
– В реальности врезали тебе, Вася. Я видел твой труп в больнице.
– Труп?.. Как это?.. – обветренное до черноты лицо Василия Илларионовича побледнело.
– Забавные вы пацаны, оба, – сказал я и встал на ноги. На головокружение не было и намёка. – Вася, дай телефон.
– Своего нет? – нахмурился Василий Илларионович.
– Мой полиция запеленгует, через пятнадцать минут будут тут.
– Куда это ты звонить собрался? – спросил Василий Илларионович, протягивая мне «Айфон».
– Да тут в городе, – успокоил его я. – А вы бы чайку сообразили, что ли.
Друзья молча переглянулись. Спиридон потянулся к закопчённому чайнику, стоявшему возле костра.
– – –
– Вы настаиваете на том, что непричастный к распространению холеры? – спросила Ирина Александрова, сидя на пеньке.
– На вашем рынке грязь и антисанитария. Вспышка эпидемии была вопросом времени. Единственное, что я сделал, подбросил несколько пятисотгривневых купюр, – ответил я.
– Вы понимаете, что это провокация?
– Если бы это были листовки в поддержку страны-агрессора, это было бы провокация. Но это были не листовки, а деньги. Причём, в национальной валюте. Какая ж это провокация?
– Если не провокация, то что это было?
– Эксперимент, если хотите.
– Эксперимент? Что же вы хотели узнать в результате?
– Поведение человеческой массы предсказуемо. Я предположил, что на такое воздействие люди отреагируют определённым образом.
– Предположения подтвердились?
– На сто процентов!
– Вы, мягко говоря, лукавите. Все знают, что ваша выходка преследовала далеко не познавательные цели. Сколько денег вы прикарманили?
– Представьте, вы идёте по улице и видите: на тротуаре лежат деньги. Большие деньги. Достаточно нагнуться, и они ваши. Как вы поступите?
– Ну… постараюсь выяснить, не потерял ли кто.
– Вы как-то знаете, что бывший владелец отказался от них добровольно. В данный момент они ничьи. Ни за что не поверю, что вы откажетесь.
– Я бы с вами поспорила на этот счёт, но речь сейчас не обо мне.
– Вы ушли от ответа. Причём, весьма неуклюже.
– Знаете, когда вы напросились на это интервью…
– Не напросился, а предложил…
– Когда вы предложили это интервью здесь, в лесу, я сразу решила: оно вам надо, чтобы себя обелить, выставить эдакой жертвой обстоятельств. Таки оказалась права… Купюры ладно, но как вы оправдаете своё поведение перед управлением полиции? Вы там гранатой размахивали!
– Толпа была настроена меня разорвать. Это был единственный выход.
– Допустим. А дальше? Дальше! Вы скажете, что взяли заложницу, потому что были вынуждены – это понятно. Но зачем вы вытолкали её голой под проливной дождь?
– Я действовал по обстоятельствам.
– Вы когда-нибудь слышали слово «мораль»?
– Вчера я видел, как сотни людей требовали выпустить из тюрьмы того, кто до полусмерти избил человека. Это было очень морально!
– Ясно. Мораль вы не признаёте. Хорошо, перейдём к делу. Зачем вам это интервью?
– Хочу сделать предложение.
– Чтобы избежать наказания?
– За что меня наказывать? Я никого не убил, не изнасиловал. Материальный ущерб, который кое-кто понес, был незначителен…
– А издевательства над медсестрой? А «скорая» и три полицейских «Приуса», которые не подлежат восстановлению?
– Не люблю, когда на меня направляют оружие. Тем более, когда стреляют.
– Вы о чём-то хотите попросить?
– Просить? Не имею такой привычки. Помните: «Никогда не просите…»?
– Не прикасайтесь к классику!
– Повторяю: хочу сделать предложение.
– Кому?
– Вашему городу. Всем его жителям.
– Ну-ка, ну-ка…
– Я у вас заработал немного наличных. Они здесь, в рюкзаке. Вот, открываю. Видите? Тут чуть больше полумиллиона. Я вам их верну. Вам, жителям этого города. Но с условием. Хочу, чтобы вы потратили их на что-нибудь полезное для города. К примеру, купите новую «скорую» или полицейские машины. Или потратьте на что-то другое, но обязательно полезное для всего города. И ещё одно условие. Не хочу, чтобы эти деньги вернулись к тем, кто сам от них отказался.
– Последнее условие странное…
– Дурачьё должно быть наказано. За глупость, за жадность и так далее.
– Нашли способ переложить свою вину.
– Трактуйте, как хотите.
– Хорошо, допустим. Вы хотите сказать, что придёте в горсовет и…
– Нет-нет! С властями я не хочу иметь дело! Дать им деньги – всё равно, что выбросить.
– Вот как! Тогда как же?..
– Я отдам деньги одному-единственному горожанину.
– Кому же?
– Пока не знаю. Тому, кто придумает, как их применить с пользой для всего города, и, более того, убедит меня в своём бескорыстии.
– Вы же сами сказали: купить новую «скорую».
– Это просто пример. Может быть, кто-нибудь придумает что-то более полезное. Да! Подчёркиваю: это должен быть рядовой горожанин, не представитель власти, не какой-нибудь руководитель, не бизнесмен.
– Странная ситуация… Аферист ищет праведника, который потратит украденные деньги с пользой для тех, у кого они были украдены, но не возвращая их им. Я правильно поняла?
– Как-то так.
– Вряд ли порядочный человек захочет прикасаться к деньгам, добытым преступным путём. По сути, вы предлагаете их отмыть. Это противозаконно и аморально.
– Аморально? В нашей стране? Не смешите меня. Кроме того, это можно было бы назвать отмыванием денег, если бы я с этого получил доход. А я на такое не претендую.
– Аферист не претендует на доход? Это вы меня пытаетесь рассмешить!
– Представьте себе. Не претендую. Вот такой я аферист. Аномальный.
– Да уж! Впрочем, что мы здесь обсуждаем? Вас же посадят не сегодня завтра!
– Я спрячу рюкзак. Отдам только тому человеку. Если меня посадят, денег никто не получит. Так что в интересах вашего города, чтобы я оставался на свободе.
– Догадываюсь, что вы и сами будете прятаться…
– Я слежу за вашим городским форумом. Если чья-то идея меня заинтересует, я того человека найду сам.
– – –
Развалины, в которых друзья-бомжи меня приютили, находились недалеко от трассы, где я взорвал «скорую». Чтобы найти меня, полицейским достаточно было их обыскать. Они почему-то этого не сделали.
На следующее утро Василий Илларионович ушёл в город. В его отсутствие Спиридон избегал общения со мной. От его вчерашней говорливости не осталось и следа. Он молча сидел в нише, где когда-то стояла статуя, завернувшись по ноздри в свою фуфайку и надвинув на глаза шапочку.
Василий Илларионович вернулся к вечеру. Был хмур и неразговорчив. Принёс два заряженных павербанка, купленных на выданные ему деньги. Сунув их мне в руки, он что-то достал из-за пазухи и показал Спиридону. Как он ни прятал от меня, я успел заметить два шприца с коричневым содержимым. Спиридон, увидев, резво вскочил на ноги, они куда-то ушли и минут через десять вернулись довольные и улыбающиеся.
Помещение, в котором мы находились, было единственным, в котором сохранился потолок. Взобравшись по остаткам чердачной лестницы на верх, я обнаружил между полусгнивших стропил площадку удобную, чтобы на ней лежать. Конфисковал у моих хозяев несколько более-менее чистых тряпок, соорудил там что-то наподобие гнезда и улёгся в него. Хоть крыша надо мной отсутствовала, было довольно тепло. Окружавшие руины высокие деревья защищали от ветра, а дождя не предвиделось. Я включил планшет и вошёл в сеть. Уровень сигнала был слабым, но для просмотра текстов вполне годился.
Я не ошибся в ожиданиях. Госпожа Александрова выложила моё интервью, практически, без сокращений.
Сеть отреагировала молниеносно. Столько мата в свой адрес я никогда не слышал.
Вскоре пошли первые идеи – классические, типа «заботы о детях» или «строительства дороги». Потом стали просить деньги на лечение смертельных болезней, воздвижение церкви, помощь детскому дому и тому подобное. Разумеется, все просили не для себя. Происхождение денег никого не заботило. Впрочем, нет – один высказался в том смысле, что «деньги грязные, и это, конечно, нехорошо, но раз уж так получилось, то почему бы и нет». В общем, сплошная скука.
Собственно, никакого плана у меня не было. Что делать дальше, я не знал. Моё интервью госпоже Александровой было сплошной импровизацией, как и предложение потратить деньги с пользой для города. Это я придумал на ходу, не задумываясь о последствиях. Хоть деньги никогда не представляли для меня самостоятельной ценности, не скажу, что был готов с ними расстаться. Просто мне нужно было время, чтобы придумать хоть какой-нибудь план.
Сейчас я ждал. Читал комментарии в надежде, что какой-нибудь запустит мои мозги, и идея появится сама собой. Такое бывает. Воображение включается, когда общаешься с кем-то, у кого оно уже хорошо работает.
Это появилось после полуночи. Информационный поток затих, я уже хотел отключиться и устраиваться на ночь, когда возник пользователь, которого раньше не было. Ник – «Одетта». Текст короткий: «А давайте откроем балетную школу!». И электронный адрес.
Конечно, я ожидал, что полиция будет пытаться меня выманить. Думаю, некоторые предложения по применению денег исходили именно оттуда. Но я сильно сомневаюсь, что в какую-нибудь полицейскую голову может прийти сама мысль о балете.
Я отправил на указанный адрес GPS-координаты поляны, на которой я встречался с госпожой Александровой. Она была на холме, с которого хорошо просматривались все подходы.
Наутро, за час до назначенного времени, я прибыл на место. В окрестностях было тихо. По деревьям скакали белки. Через поляну пробежала косуля. Двигаясь по её следу, сюда зашла то ли большая собака, то ли волк. Учуяв человека, он остановился, нашёл меня взглядом, несколько секунд смотрел в глаза, затем, пятясь, скрылся.
В тихом утреннем воздухе звуки разносятся хорошо. Автомобильный двигатель я услышал издалека. По заросшей травой старой грунтовке к моему укрытию приближался серый «Ланос». Остановился метров за двести. Открылась дверь, вышла женщина в джинсах и бежевой куртке с капюшоном, накинутым на голову. Достала смартфон, поводила пальцами по экрану, видимо, открыла карту. Сориентировавшись, пошла в мою сторону.
Шла неспеша, наклонив голову, сверяя со смартфоном своё местоположение. Сигнал был слабый, ей приходилось останавливаться и ждать, когда отметка обновится. В конце концов, она таки нашла мою поляну. Зайдя, удовлетворённо вздохнула: «Ну, наконец-то!», откинула капюшон куртки и огляделась по сторонам.
– Лилька?! – воскликнул я.
Некоторое время она смотрела на меня молча.
– Мы знакомы? – спросила осторожно.
На ничтожное мгновение показалось, что меня окружают больничные стены.
Это была Лилька. Никакого сомнения. Причёска, глаза, голос. Даже родинка у правого уха. Одежда, правда, не такая – более скромная.
Мы стояли и растерянно смотрели друг на друга.
– Вы очень похожи на одну мою знакомую… – наконец выдавил из себя я.
– Её тоже зовут Лиля?
– Ну да… тоже… – пробормотал я, наверное, с очень глупым видом.
– Я как-то… не совсем таким вас представляла…
– Я, в общем-то… тоже не ожидал.
Мы ещё помолчали.
– А кто она, эта ваша знакомая?
– Она? Она… ну, в общем… моя жена. Бывшая жена, то есть… – не сумев ничего придумать, сказал я.
– То есть как? Я похожа на вашу бывшую жену?
– Как две капли воды.
– Послушайте, а вы не клеите меня случайно? Заманили сюда… Если что, учтите – я вооружена!
– И в мыслях не было! Я и сам не ожидал, что вот так… Просто хотел поговорить.
Она долго меня рассматривала, видимо, размышляя не уйти ли. Но потом, что-то решив для себя, села на ствол поваленного дерева.
– Вы смелая женщина, – сказал я, не решаясь сесть рядом. – Одна в лес, к человеку с такой репутацией…
– А я не боюсь. Знаю, что сейчас со мной ничего не случится.
– Я вызываю доверие?
– Да нет, не в этом дело. Просто я знаю, когда умру. Это случится не сегодня.
– Как такое можно знать?
– Я знаю. Знаю и всё.
– Умеете предсказывать будущее?
– Нет, не умею. Не в этом дело. И вообще, мне эта тема неприятна. Давайте сменим. Лучше расскажите о своей жене. Мне интересно. Раз я на неё так похожа… Кто она? Как вы познакомились? Почему разошлись?
Я присел рядом.
– На последний вопрос ответить проще всего. В блестящей упаковке оказался порченый товар.
– Понятно. Не оправдала ваших высоких требований.
– Можно сказать и так.
– Или вы не оправдали её? – она бросила на меня быстрый взгляд.
– Вы уверены, что никогда меня не видели? – ответил я после паузы.
– Не видела. Я бы запомнила. У меня хорошая память на лица. Хотя… – она посмотрела на меня внимательно. – У вас лицо какое-то… незапоминающееся. Странное какое-то.
– В чём же странность?
– Как будто вы сейчас здесь и в тоже время не здесь… Смотрите, как из другого мира.
– В определённом смысле так и есть.
– Вот как? Любопытно…
– Давайте сменим тему.
– Избегаете серьёзных разговоров? Знакомо.
– Почему знакомо?
– Был у меня такой… О чём угодно мог говорить. А как о серьёзном, так в кусты.
– Был?
– Разошлись.
– Не оправдал высоких требований?
– Ехидничаете? Да, не оправдал.
– Кем он был?
– Инженер-строитель.
– Мало зарабатывал?
– В мужчине не заработок главное.
– Далеко не все так думают.
– Я далеко не все. Да! Кстати. Как вас зовут?
– Неважно.
– Как это неважно? Я же должна к вам как-то обращаться!
– Обращайтесь, как хотите.
– Понятно. Конспирация. Ну дело ваше… Собственно, о чём мы сейчас с вами говорим? Я же не за этим сюда приехала.
– Вы хотите открыть балетную школу.
– Не вижу повода для иронии. Даже в таких городках, как наш, есть одарённые дети. Почему бы не дать им такую возможность?
– Я не иронизирую. Цель благородная, не спорю. А вас не смущает происхождение моих денег? Может, для столь благородной цели вам поискать финансирование из легальных источников?
– После того, что мне наговорили в этих самых легальных источниках, меня ничего не может смутить.
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду откаты. Деньги найти не проблема. Только большую часть придётся отдать. Почти всё. Того, что останется, для моей благородной цели не хватит. Так что для меня честнее иметь дело с вами. И сумма, которую вы предлагаете, достаточна. На обустройство хватит.
– Есть проблема.
– Тоже хотите долю?
– Нет, не это. Деньги надо как-то легализовать. Чтоб потом не платить откаты правоохранителям.
– У меня есть маленький бизнес. Скажу, что доходы от него. Скопила.
– Так вы бизнесвумен? Зачем вам балет?
– Я балерина. Бывшая.
– Вот оно что! Почему бывшая?
– Не сложилось.
– Что так?
– Да вот так. Танцевала в областном оперном. Знаете, сколько там получает артист балета? Меньше водителя трамвая. Ушла. Жить на что-то надо. Устроилась в шоу-балет. Даже два сезона в Турции отработала. Потом начались конфликты с работодателем. Ушла и оттуда. Вернулась сюда, на родину. Перебивалась с хлеба на воду. Дворником была. Потом повезло – удалось свой бизнес наладить.
– Какое-то шоу?
– Торговля. На оптовом рынке. Хочу от этого отойти. Уже могу себе позволить – есть помощники. Истосковалась по профессии. Но чтобы что-то открыть, нужен начальный капитал. А его нет – всё, что имею, в обороте. Ваше предложение выглядит более заманчиво, чем кредит в банке.
– – –
Я просто отдал ей рюкзак. Она просто сказала «спасибо».
Хорошо, что хватило ума попросить номер телефона.
Я вернулся в развалины и молча забрался в своё «гнездо».
Лежал, завернувшись в ветровку, и вспоминал.
Вспоминал, как мы с Лилькой познакомились… В трамвае. В давке я сломал её зонтик. Она расплакалась. Пошли покупать новый. Потом… Смешно получилось, в общем…
Когда мы стали расходиться? Когда оно началось, это отчуждение? Тогда, когда я почувствовал, что вечером не хочется рассказывать о том, что делал днём? Или раньше, когда её перестало интересовать, нравится ли мне то, что она готовит?
Однажды она показала свои рисунки. Они были слабыми. Я так и сказал. Больше она их не показывала.
Если бы я похвалил те рисунки?
Я решился, когда уже стемнело.
– Алло? Алло, кто это? – голос в трубке был точно таким, как у моей Лильки.
– Это я. Мы с вами встречались утром.
– А, поняла, кто это… Я уже ложиться собиралась.
– Вроде рановато…
– Набегалась за день. Вы что-то хотите?
– Да вот… хотел узнать, как там у вас. Как у вас дела.
– Понятно. Контролируете ваши деньги.
– Зачем вы так?.. И это теперь не мои деньги. Это ваши деньги.
– Так что вы…
– Просто мне интересно, как у вас там. Я хочу…
– Что же вы замолчали?
– Хочу… хочу, чтоб у вас всё получилось.
– Вот как?.. Ну что ж, спасибо… Спасибо за сочувствие… и за пожелание.
Мы помолчали.
– Алло, где вы? Молодой человек без имени! Вы ещё там?
– Да.
– Скажите… а та женщина… Ну та, на которую я похожа… Я действительно так похожа?
– Как две капли воды.
– Тогда как вы поняли, что это я, а не она.
– Вы совсем другой человек.
– Но если мы так похожи… Как две капли воды… То как?..
– Вы другой человек. Не знаю, как объяснить… Вы совсем не такая.
– Лучше или хуже?
– Лучше! Намного лучше!
Мы опять помолчали.
– Вы её любили? Я понимаю: почему-то вы разошлись. Но ведь до того были вместе. Сколько лет прожили?
– Двенадцать.
– Ого! Целых двенадцать лет! Выходит, всё же, вы её любили.
– Да… Наверное…
– Что же случилось?
– Не знаю… Теперь не знаю…
– У вас голос какой-то… У вас там всё хорошо?
– Да… наверное…
– Да что ж такое? Что у вас с голосом? Что с вами? Алло! Алло! Эй, отвечайте!
Пришлось покашлять, чтобы отпустило горло.
– Наверное простыл.
– Там, где вы прячетесь, холодно?
– Да не сказал бы…
Опять наступило молчание.
– Сомневаюсь, что вас интересует балет. Вы отдали мне деньги, потому что я похожа на неё?
– Вы лучше. Намного лучше.
– Да?.. Но что во мне такого? Почему?..
– Потому что я вас люблю.
Её молчание было долгим, невыносимо долгим.
Потом она повесила трубку.
– – –
Собственно, прекратить это можно в любой момент. Просто удариться головой обо что-то твёрдое.
И тогда всё исчезнет: холод, развалины, моя афера, ненависть целого города…
Что взамен?
Снова прозябание в шкуре рядового инженера-строителя, кооперативная квартира на шестом этаже с вечно неработающим лифтом, жена, с которой связывает только жилплощадь…
А что здесь? Двое нищих, которым я пообещал спасти город, и та, другая Лиля – единственный человек, с которым я был до конца искренним.
И да! Главное: всё это, как бы реально ни выглядело, – существует лишь в моём повреждённом мозгу. На самом деле ничего этого нет. На самом деле я лежу на больничной койке в глубокой коме, подключённый к машине, поддерживающей во мне жизнь. А Лилька ждёт, когда я отдам концы, и с её плеч свалится эта обуза.
Раздался скрип чердачной лестницы. В моё убежище поднялся Спиридон и уселся, прислонившись спиной к уцелевшему стропилу.
– Чувствую, вам надо с кем-то поговорить, молодой человек, – сказал он. – Не спрашивайте, почему я так решил. Просто чувствую. Волшебная отрава, текущая сейчас в моих жилах, обостряет интуицию. Это одно из её благотворных свойств. Впрочем, не в этом её главная польза. А в том, что очень скоро она меня убьёт, и слава богу. Но речь сейчас не обо мне, а о вас. Можете, не таясь, поведать мне о своих сомнениях. Как знать? Вполне вероятно, что мне удастся помочь разрешить некоторые из них. Почему нет? Не стоит стесняться, юноша – я буду единственным, кто узнает о ваших тайнах. Ибо любезный друг Василий Илларионович к подобному невосприимчив, а кроме него наиболее вероятным собеседниками моими будут лишь могильные черви.
Не раздумывая, я выложил ему всё. Он слушал внимательно, не перебивая, не усомнившись ни в одном моём слове. Выслушав, сказал:
– Я так понимаю, молодой человек, что вы существуете, как бы в двух разных реальностях. По вашему мнению, что одна из них настоящая, а другая порождена вашим травмированным мозгом.
– В целом суть вы уловили.
– В таком случае, у меня к вам вопрос. Возможно, он подольёт масло в огонь ваших сомнений, но не задать его я не могу.
– Спрашивайте, я готов.
– Вы почему-то решили, что эта самая реальность, в которой мы сейчас с вами разговариваем, и есть ваш бред. А посему можно дать себе волю – выпустить на свободу потаённые желания, которые в той, другой реальности вы тщательно скрываете. Почему нет? Здесь же всё не настоящее, всё понарошку. Делай что хочешь – ничего за это не будет. Так?
– По-видимому, так.
– Тогда позвольте задать вам тот самый вопрос. Он таков. Почему, собственно, вы решили, что именно эта реальность, в которой мы сейчас с вами беседуем, не настоящая, а всего лишь порождена бредом вашего сознания?
– Призраков не существует.
– Ах вот оно что… Это результат общения с Ариной. В таком случае, позвольте заметить, голубчик, что вы сами себе противоречите. Не вы ли убеждали меня в том, что сей мир не следует пытаться понять, но воспринимать его таким, каков он есть? Теперь же вы отказываете ему в праве на существование лишь на том основании, что его часть не соответствует вашему пониманию.
– Призраков не существует.
– Странный вы человек. Верите тому, в чём вас убедили другие, но отказываетесь верить собственным глазам.
– Понимаю, вы боретесь за своё существование. Вам трудно принять истину. А истина в том, что вы, как Арина, как и все в этом городе, не существуете. Вы лишь плод моего воображения. А те слова, которые вы говорите на самом деле рождаются в моей голове. По существу, я сейчас разговариваю сам с собой.
– Что же вас убедит в обратном? Как мне убедить вас, что эта реальность, в которой мы сейчас с вами беседуем, настоящая?
– Боюсь, что у вас не получится. Видимо, травма обострила мои творческие способности. Всё, что я здесь видел, в чём участвовал – не выходит за рамки моей фантазии.
– И всё же?
– Хороший вопрос… Ну, скажем, так… Я вам поверю, если узнаю здесь нечто такое, что заведомо не может быть порождено моим мозгом.
– Я рассказал вам историю Арины. Думаете, она тоже родилась в вашем мозгу?
– Почему нет? Я давний поклонник квартета «Секрет». У них есть песня «Арина-балерина». Революция, репрессии – избитые сюжеты. Почему бы моему мозгу не синтезировать историю? Со мной такое бывало – вдруг рождались целые рассказы. Я даже парочку в интернет выложил.
– Что не может быть порождено мозгом ни здоровым, ни больным… Что выходит за рамки творческих способностей… – Спиридон задумался надолго. Потом сказал: – Не гадал я, что при жизни своей буду удостоен чести решать столь непростую философскую задачу.
– Спиридон, вы философ? Вы кто, вообще?
– По профессии я артист – я уже говорил. Впрочем, вряд ли это имеет какое-либо значение…
– В этом городе я сплошь и рядом сталкиваюсь со странными… существами.
– Странности этого города ни в коей мере не говорят о его несуществовании. И, напротив, а не представляется ли вам странным ваше серое невыразительное бытие в той другой, настоящей по вашему мнению, реальности? Не странно ли, что молодой полный сил мужчина ведёт жизнь, достойную вьючного животного?
– Вы уходите от ответа.
– Не ухожу. Просто мне надо подумать. Задача, поставленная вами, невероятно трудна. Подозреваю, что у неё вообще нет решения. Ибо фантазия человеческая не имеет границ, и что бы я не предложил, вы скажете, что и сами смогли бы такое придумать.
– Не сгущайте краски. В конце концов, кому как не мне быть заинтересованным в установлении истины.
– В таком случае, юноша, оставаясь телесно с вами, мыслями своими я вынужден вас оставить, дабы погрузиться в пучину размышлений.
Он поплотнее завернулся в фуфайку, надвинул шапочку и закрыл глаза.
Я проснулся от того, что меня трясли за плечо. Видимо, сон был глубоким – я не сразу сообразил, где нахожусь, и кто меня будит.
– Спиридон! Какого чёрта? – только и смог вымолвить я.
– Скажите, юноша, вы случайно не субъективный идеалист? – спросил тот без обиняков.
– Какого чёрта, Спиридон? – я сел и принялся тереть лицо, чтобы окончательно проснуться. – Вы разбудили меня среди ночи, чтоб задавать идиотские вопросы?
– Мне необходимо узнать, не являетесь ли вы духовным последователем преподобного Джорджа Беркли, – пояснил свои действия Спиридон.
– Это ещё кто такой? Преподаватель в семинарии, где вы учились?
– Я учился в театральном. А Джордж Беркли – английский епископ, который утверждал, что невозможно представить мир, существующий вне сознания человека, ибо мир и есть совокупность наших ощущений. Как вы относитесь к такой идее?
– Что-то мне это не очень понятно… И вообще, что вы ко мне прицепились среди ночи? Посмотрите на меня: какой из меня идеалист? Я реалист или прагматик – называйте, как хотите. А сейчас отстаньте, я спать хочу!
Я лёг, отвернувшись и натянув куртку на голову.
– Хорошо. Я докажу, что наш мир реален, – как ни в чём ни бывало продолжил Спиридон. – Но потребуется ваша помощь.
Помедлив, я снова сел.
– Ну?
– Сначала докажите мне, что вы существуете.
– В смысле?..
– В прямом. Докажите, что вы реально существующий индивидуум, а не плод чьей-то фантазии.
– Есть сомнения?
– У вас, разумеется, нет. У меня есть. Например, вы разговаривали с Ариной. Закрадываются подозрения, что вы – порождение моего разума, отравленного наркотиком. Докажите обратное.
– Бред…
– От чего же? Всё логично.
Я задумался надолго.
– Хорошо, – сказал я, подумав. – Этот мир не существует. Я в этом уверен. Он – плод моей фантазии. Тогда я в нём тоже не существую. Я, чьи руки я сейчас вижу своими глазами, тоже плод моей фантазии.
– Вы сейчас рассуждаете, как верный последователь того английского епископа. Утверждаете, что этот мир, как и вы в нём, – всего лишь совокупность ваших бредовых ощущений.
– Это так и есть! В действительности, я в коме, и вы мне мерещитесь.
– Вы ведь раньше не знали о Джордже Беркли? Никогда о нём не слышали?
– Никогда. Хотя, возможно, и слышал, просто не помню. Будучи студентом, философию я прогуливал.
– Понимаю, к чему клоните. Это хранилось где-то в глубинах вашей памяти, а сейчас в следствие травмы причудливым образом всплыло на поверхность. Хорошо-хорошо! Не стану с вами спорить. Только позвольте задать вопрос. Если знание о преподобном Беркли таки присутствует и в этом мире – неважно, как оно сюда попало, – и в том, то, в чём тогда отличие реальности этого мира от реальности того?
Я промолчал.
– Молчите? А я скажу, в чём. В одном из этих миров вы абсолютно заурядная личность, впрочем, вполне безобидная. В другом же – отъявленный негодяй. Вот и всё отличие. Там вы прозябали, будучи уверенным, что обстоятельства не позволяют вам проявить себя. И вот вы попали сюда. И обрели возможность развернуться на полную. И вы-таки развернулись. Но почему так? Почему таким отвратительным образом? Вы свернули не на ту дорогу. Причём, согласитесь, абсолютно добровольно. Никто вас не подталкивал. Выходит, дело не в обстоятельствах…
– Хотите ударить побольнее…
– Не я вас бью – жизнь. Жить – больно. Одни эту боль терпят, другие пытаются от неё сбежать, а кто-то, чтобы её заглушить, делает больно другим.
– А вы к кому относитесь?
С минуту он молчал.
– Хорошо. Вы мне рассказали о себе. Расскажу о себе и я. А вы сами решите, к каким людям меня отнести. Помните, я говорил, что лежал в больнице? Помните. Теперь слушайте, почему я туда попал. Когда в театре мне указали на дверь, я пустился во все тяжкие. Стал пропивать свои скромные сбережения. Кончилось это плохо. Я убил человека. Хоть он был мерзкий и, возможно, заслуживал смерти, да простит меня Господь за такие слова, но всё же человек. В некой случайной компании он гнусно повёл себя с дамой у всех на глазах. Гулящая, но всё равно женщина… Я не сдержался. Слово за слово – он выхватил нож, я разбил бутылку. Он успел нанести мне четыре удара. Я – один. Тот единственный удар оказался смертельным. С моей стороны была явная самооборона, но следователь решил иначе. Во всём обвинил меня – начальство торопило передать дело в суд. Хорошо, что деньги он любил больше, чем расположение начальства. Я откупился. Пришлось продать квартиру.
– Так вот… Лёжа на больничной койке, я наблюдал открывшуюся во мне бездну. Я не просто не сожалел о случившемся, а стал чувствовать в себе тягу продолжить убийства. Выписавшись из больницы и рассчитавшись со следователем, я пришёл сюда в эти развалины. С тех пор здесь и живу. По доброй воле ушёл от мира, если хотите принял схиму.
– Сбежал, – сказал я.
– Можете истолковать и так. Вам виднее. Вот только вреда от меня здесь никакого. А польза бывает. К примеру, вас выходил.
– Призываете меня к тому же?
– Упаси Боже. Ни к чему я вас не призываю. Я давно никого ни к чему не призываю. Вам решать, что с собой делать.
– Мне всю жизнь говорят что-то я должен что-то решать… И вы туда же…
– Нет, юноша. Я здесь не при чём. Не тот случай. И никто не причём. Самые главные решения человеку приходится принимать самому. Когда понимает, что остался совершенно один.
– – –
– Как вы меня нашли?
Лиля была в халате, только со сна.
– Это было несложно, – сказал я.
Её адрес я нашёл по девичьей фамилии моей Лильки на сайте «Nomer.org». Ещё одно совпадение.
– Ну заходите, раз пришли, – сказала она, отступив.
После разговора со Спиридоном о сне нечего было и думать. Я выбрался из развалин и пешком направился в город. Шёл недолго – каких-то два часа. Идя по пустым утренним улицам, не думал, зачем иду, что буду говорить – вообще ни о чём. Просто знал, что мне надо туда, к ней.
– Вот так я живу, – сказала она, когда я прошёл в квартиру.
Квартира была такая же, как у родителей моей Лильки, только обстановка другая.
– Вы, наверное, скажете, зачем пришли?
– Мне больше некуда идти.
Она долго молча на меня смотрела. Потом сказала:
– Вам надо принять душ.
– Что?
– Идите в душ – вы пахнете бомжом. Горячая вода есть – у меня бойлер. Дам вам одежду моего бывшего. А своё оставьте, я постираю. И повязку надо бы сменить.
Я открыл горячую воду на полную, рискуя получить ожог. Хотелось смыть побольше грязи. Хотя и понимал, что ни кипяток, ни мыло ту грязь не смоют.
Потом она перевязала мне голову. Сделала это неумело, но повязка держалась.
– Может быть всё-таки скажете, как вас зовут? – спросила она, поставив передо мной тарелку с яичницей.
– Скажу… позже, – ответил я.
– Боитесь, что побегу в полицию вас сдавать?
– Нет. Просто моё имя в этой реальности не имеет значения.
– Не понимаю.
– Я не смогу объяснить.
– Странный вы. Взгляд у вас странный. Смотрите как будто оттуда… из-за черты.
– В некотором смысле, так и есть.
– Когда у меня умер отец, на девятый день он приснился. Смотрел так же. Только вы на покойника не похожи. Вы ешьте, ешьте.
Она села напротив и стала смотреть, как я ем.
– Догадываюсь, что с вами. Да нет, точно знаю. Это из-за той женщины, вашей жены. Из-за разрыва с ней. Вы ведь её любите… Столько с ней прожили. Как же можно было не любя?.. А теперь переживаете, потому что разошлись… Это ведь из-за неё всё? Из-за этого? И здесь вы из-за неё. Потому что я на неё похожа. Ведь так? Так? Молчите… Ну молчите себе. Ешьте, когда вы в последний раз ели домашнее… Где она сейчас? Далеко?
– В другой реальности.
– Вы опять про какую-то реальность! Не понимаю я этого. Она далеко?
– Туда не добраться.
– Вы по ней тоскуете. Увидели её во мне и пришли среди ночи. А я не она, я другая.
– Вы лучше!
– Что вы заладили: лучше, да лучше! Я не она. И всё тут.
– В вас есть всё то, чего в ней никогда не было. То, что я мечтал в ней увидеть, и не увидел.
– Не увидел? Или не смог увидеть? А может, не захотел?
– Может, и так…
– Вот. Сами признаёте.
– Я туда не вернусь.
– Стыдно?
– Всё моё здесь. Вы здесь.
– Я – не ваше.
– Вы – моя воплощённая мечта.
– Знаете, что я заметила? Вы всё время говорите о себе. Даже когда говорите обо мне, всё равно имеете в виду себя. И я – не сама по себе, а ваше отражение.
– Вы даже не предполагаете, насколько вы правы!
– Много себе позволяете.
– Вы – моё.
– Нет.
– Я буду вас добиваться.
– Не тратьте время. Лучше возвращайтесь к жене. Она вас примет. Вот увидите. И будете вы с ней жить долго и счастливо, и умрёте в один день.
– Я умру здесь. С вами.
– Очень хорошо! Я вам нужна, чтобы вы умерли! Вот она какая, ваша любовь!
– Да вот такая. Навсегда. До гроба.
– Да-а-а! Было-было, но так мне ещё никто не объяснялся! Может, вы просто деньги хотите забрать? Так я уже их потратила. Большую часть.
– Я про них забыл давно. Были бы ещё – отдал бы вам.
– Этих достаточно. Спасибо. У меня даже мысль была, думала: открою школу, назову именем мецената, как у цивилизованных людей принято. Так вы ж его не говорите.
– Нет
– Странный вы человек. Ни денег вам не надо, ни славы…
– Мне нужны вы.
– Вы действительно считаете, что можно заполучить женщину, разговаривая с ней о себе?
– Я говорю не о себе, а о том, что встретил свой идеал.
– Боже, как он заговорил!.. Какой слог!
– Это не комплимент. Это констатация факта.
– После этих слов я должна пасть вам в объятия?
– Обычно я получаю своё.
– В этот раз вы ничего не получите. Уж поверьте. Обмануть целый город намного легче, чем одну-единственную женщину.
– – –
Вынырнув из предрассветной мглы, поезд подошёл к перрону. Остановился, тихо скрипнув тормозами. Открылась дверь, на перрон шагнул заспанный проводник, поёжился от утренней свежести, вопросительно посмотрел на меня. Поняв, что я садиться не буду, зевнул, огляделся напоследок, вернулся в тамбур и захлопнул дверь. Поезд тронулся, огни последнего вагона скрылись за поворотом.
Я остался один.
Днепр, февраль 2017 – август 2019.
Скачать на телефон Купить книгуБиссектриса треугольника
Пролог

– Мне очень жаль, но лекарства у меня нет, – говорю я Ей.
– Лекарство – это вы, – говорит Она Ему
– У вас кто-то есть? – говорю я.
– В данный момент есть ты, – говорит Она.
Это финальные слова.
Мы держим паузу.
Занавес закрывается. Аплодисменты.
Занавес открывается, мы кланяемся. На сцену несут цветы. Мы благодарим, кланяемся ещё.
Зрители не отпускают. Ещё раз выходим на поклоны.
Всё, как всегда.
Неся в руках букеты, мы возвращаемся в Её гримёрную. Она кладёт цветы на столик и говорит Ему радостно:
– Ты был великолепен! Спасибо за блестящую игру! Обними же меня! Обними меня крепко, как я люблю!
Она шагает ко мне, чтобы Он Её обнял.
Я могу ничего не делать – всё равно произойдёт то же, что и всегда. Но я обнимаю – не хочу, чтобы Она упала.
Счастливое выражение Её лица вдруг сменяется ужасом. Глядя на меня-Его, Она восклицает:
– Милый! Тебе больно?! Что с тобой? Что с тобой?!
Ещё через несколько мгновений Её глаза гаснут, лицо приобретает бессмысленное выражение.
Взяв за руку, Маша усаживает Её в кресло – надо снять грим.
Я выхожу из гримёрной.
На сегодня всё.
Действие первое
В Неё невозможно было не влюбиться. Идеальная фигура, каштановые волосы, правильный овал лица. И взгляд… «Мудрый, античный, взгляд, которому не меньше двух тысяч лет»…
Тогда мы с Ним со свеженькими дипломами в кармане, я – режиссёра, Он – актёра, пришли служить в этот театр. Мы учились на параллельных курсах, были друзьями и на распределении попросились в одно место.
Я сразу же начал осаду. Дарил цветы, воруя их на клумбах, как герои Ремарка, писал стихи, приглашал на свидания.
Но всё же Она выбрала Его…
Перед Ним не могла устоять ни одна. Высокий широкоплечий брюнет, аристократическая внешность, изысканные манеры, природный артистизм – Ему достаточно было протянуть руку.
У них был бурный роман. Потом – шумная свадьба. Я был свидетелем. Напился до потери памяти. Впервые в жизни.
В театре меня назначили вторым режиссёром. Его же ввели во все спектакли, где нужен был герой-любовник – предшественник как раз уехал за границу. Труппа заволновалась: без году неделя на сцене! мастерство подменяют фактурой! театр превращают в балаган! Но сверху прозвучал окрик: юношу не трогать – он делает кассу! И действительно: билеты стали раскупаться, а наш обшарпанный зал расцвёл нарядами Его поклонниц.
Он и Она играли в разных спектаклях. Не хотели играть вместе. В первый их год, когда Она была на сцене, Он смотрел из-за кулис. На поклоны выносил большой букет. Она приходила на Его спектакли редко. Смотрела с галёрки, после занавеса за кулисами не появлялась.
Потом всё изменилось. На Её спектаклях Он больше не показывался. Их перестали видеть вместе. Разговоров о Ней Он избегал, если спрашивали, отвечал неопределённо. Она перестала улыбаться, выглядела озабоченной.
Его мастерство росло. Я не узнавал друга – Он молодой специалист, в институте перебивавшийся с «троек» на «четвёрки», вдруг заиграл, как опытный актёр. В труппе Его уже не называли «новыми штанами». Теперь о Нём говорили, как о восходящей звезде. На афишах Его имя набирали самыми большими буквами.
Она же мало-помалу уходила в тень. Играла без огонька. Стала отказываться от спектаклей. Со странной улыбкой говорила, что теперь занята в главной роли – в роли жены.
Он Ей изменял. Об этом знали все. Она же предпочитала не замечать.
Однажды Он пропал, не пришёл на спектакль. Я Его разыскал в реанимации. Сказали, что кто-то ударил Его по голове прямо у подъезда, жена обнаружила и вызвала «скорую».
Он никак не мог вспомнить, кто Его ударил. Но это не самое плохое – Он основательно подзабыл некоторые свои роли. Пришлось их репетировать заново.
Мне доверили самостоятельную постановку. Я предложил пьесу Эрика-Эммануиля Шмитта «Маленькие супружеские злодеяния». Руководство поначалу воспротивилось: малоизвестный у нас автор, к тому же иностранный, пьеса для антрепризы, а не для академического театра – там всего два персонажа. Чем занять остальную труппу? Людям надо платить зарплату! Произошёл жёсткий разговор, я вспылил. Сошлись на том, что постановка таки состоится, но спектакли будут играть не чаще раза в месяц.
Я предложил роль Лизы Ей, а Жиля – Ему. Прочтя пьесу, Он отказался. Уговоры продолжались долго, и вот однажды Он всё же пришёл на читку.
Работа долго не шла. Актёры не могли вжиться в образы. Каждый трактовал идею пьесы по-своему. Репетиции заканчивались скандалами.
Однажды случился перелом. Репетировали то место, где герои, вспоминая счастливое прошлое, целуются. Она сказала, что в этом месте поцелуй должен быть не театральный, а настоящий – иначе зритель не поверит. Он, отбросив раздражение, поцеловал Её, как Она хотела.
В тот момент между ними что-то произошло. Что – не знаю.
У них стало налаживаться. Они снова выглядели счастливой парой. В Её глаза вернулся прежний блеск, в игру – кураж.
Подготовка к премьере прошла быстро. Сценография была простой – интерьер квартиры писателя. Костюмы – повседневная одежда.
Наконец – премьера. Спектакль они отыграли, что называется на нерве, на одном дыхании.
На поклоны выходили пять раз. Когда, неся в руках охапки цветов, они и с ними вся постановочная группа вернулись в гримёрную, это и произошло.
В восторге от успеха, Он изо всех сил сжал Её в объятиях. Вдруг Его глаза закатились, Он упал на пол и перестал дышать. Увидев это, Она потеряла сознание.
Когда через несколько дней Она открыла глаза, оказалось, что они смотрят на мир с радостной наивностью годовалого ребёнка.
Врачи объяснили, что сильнейшее потрясение отключило Её мозг. Возможно, со временем это пройдёт само. Или для Её пробуждения понадобится другое сильное потрясение.
После похорон руководство распорядилось снять спектакль – оба исполнителя вышли из строя. Я стал протестовать. Меня не слушали. Я не отступал. В конце концов, меркантильные соображения взяли верх – автору заплатили роялти, деньги надо отработать.
Я решил сам выйти на сцену в роли Жиля. Лизу согласилась играть одна из наших актрис.
По большому счёту мне нечего было сказать зрителю. У меня не было ни длительных отношений, ни семейной жизни. Хоть я и был женат, но с женой не прожил и года. Но Его видение роли, Его наработки я знал хорошо. На то и рассчитывал.
Однажды Маша, верная гримёрша, единственный человек, который за Ней ухаживал, привезла Её на нашу репетицию, сказав, что рабочая атмосфера театра, которую так любят все артисты, должна была благотворно повлиять на больную. Словно маленького ребёнка, за ручку, она завела Её в зал и усадила в первый ряд.
Я как раз произносил монолог Жиля, где тот описывает супружескую пару как сообщество убийц. После моей реплики, когда партнёрша уже открыла рот, чтобы произнести свои слова, Она вдруг громко их сказала. Потом самостоятельно поднялась на сцену. Я подал следующую реплику. Она подхватила, и мы доиграли спектакль до конца. Она помнила каждое слово, каждую интонацию, каждое движение! Её глаза жили!
Когда были сказаны последние слова героев, все присутствующие замерли, ожидая, что будет дальше. Казалось, память к Ней вернулась, и сейчас, как всегда в конце репетиции, Она выдохнет и скажет своё: «Всё! Мы это сделали!».
Но нет… Её взгляд погас, и Она снова вернулась в сомнамбулическое состояние.
Я попросил никого не рассказывать о происшедшем, а Машу – привезти Её на следующую репетицию.
На сцену поставили декорации, я оделся в костюм Жиля. Первый ряд партера был заполнен посвящёнными в тайну. Всё выглядело, как настоящее представление.
Наложив грим, Маша привела Её за кулисы и поставила рядом со мной перед закрытой дверью квартиры Лизы и Жиля. Её взгляд по-прежнему был безучастным. Но только я открыл дверь, Её глаза вспыхнули, и Она шагнула в декорацию.
Мы отыграли спектакль от начала до конца. Зрители аплодировали стоя. Она кланялась, Её глаза сияли. Кто-то вынес на сцену цветы. Взяв букет, Она вдруг повернулась и пошла за кулисы. Я и другие – за Ней. Она вошла в свою гримёрную, и там произошла та ужасная сцена, в которой Она видит Его смерть, и сознание Её покидает.
Я тогда сказал, что этот спектакль и есть то самое потрясение, которое способно вернуть Ей разум. Я рискнул объявить Её выздоравливающей и ввести в спектакль, никому, впрочем, кроме узкого круга, не говоря об истинном положении вещей.
– – –
Это продолжается уже четыре месяца.
Четыре месяца мы играем этот проклятый спектакль.
Она и я.
Нет, не так… Она и Он.
Он и мёртвый с Ней.
Тогда, много лет назад я дико ревновал. Я даже хотел Его убить. Но как я мог это сделать…
Когда на сцене мы с Ней целуемся, как требует действие, я чувствую, что Она целует Его.
Я всего лишь силуэт, кукла, олицетворяющая Его. Он всё равно с Ней.
Такова Её болезнь.
Таково моё проклятие.
Раз за разом происходит одно и то же. Её больное сознание повторяет события того вечера. Она играет спектакль, как будто на сцене рядом с Ней Он. После, в гримёрной в Её памяти всплывает картина Его смерти, и разум снова покидает Её. На месяц. Как проигрыватель, который каждый раз воспроизводит одну и ту же запись и перематывает в начало, когда та заканчивается.
Играет Она всегда великолепно! Посвящённые в тайну удивляются: как Ей это удаётся. Неужели Она действительно испытывает все эти чувства? Тогда Ей не позавидуешь – каждый раз Она заново переживает Его смерть…
Он тогда пригласил меня на их свадьбу. Надо было отказаться. Духу не хватило.
До самой последней секунды я не верил, что Она скажет: «Да». Как приговорённый до последней секунды не верит, что будет залп.
Хоть я и режиссёр, но, разумеется, меня учили актёрскому мастерству. На той свадьбе я играл свидетеля. Это была моя самая лучшая роль… На моём лице была улыбка, но в душе я их проклинал. Обоих. Страшными проклятиями.
Сбылось. Он умер у Неё на глазах, а Она всё время видит эту страшную картину.
Если бы тогда, давно Она выбрала меня, ничего этого не было бы.
Могу всё прекратить – попрошу руководство снять спектакль. Чёрт с ними, пусть говорят, что хотят…
Могу отказаться играть, ввести другого актёра. Всё-таки режиссёр – могу себе позволить.
Или уйду в другой театр – звали.
Те мгновения на сцене… Их всего три… Под взглядами сотен пар глаз…
Когда Она целует Его в мои губы, во мне что-то происходит…
Чувствую, что становлюсь Им.
Она создаёт Его из меня, словно из куска красной глины. Поцелуями вдыхает в меня душу. Его душу…
Три мгновения… Три ничтожных мгновения Она держит меня в плену…
Я ощущаю Его в себе! Но лишь по её воле… Только три бесконечных мгновения…
Его смерть ничего не изменила – они по-прежнему вместе.
Невыносимо…
Какая сладкая ненависть…
– – –
– Мне очень жаль, но лекарства у меня нет, – говорю я Ей.
– Лекарство – это ты, – говорит Она мне
– У вас кто-то есть? – говорю я.
– В данный момент есть ты, – говорит Она.
Мы держим паузу.
Занавес закрывается. Аплодисменты.
Занавес открывается. Несут цветы.
Меня бьёт дрожь. Через силу благодарю восторженных зрительниц, сующих мне букеты.
В голове одна мысль: «Она изменила текст! Изменила текст!».
Это невозможно! Она никогда не меняла текст!
Вместо слов: «Лекарство – это вы», Она сказала: «Лекарство – это ты»!
Она никогда такого не делала. Никогда! К текстам относилась трепетно. Вольностей не позволяла ни себе, ни другим. Говорила: «Автора надо уважать!».
Она произнесла слова «лекарство» и «ты» в одной фразе. И в этот момент смотрела на меня. Не на Него – на меня!
Пора действовать! Время пришло.
– – –
Пистолет ТТ. На затворной рамке сверху выгравировано: «Смерть немецким оккупантам!», на боковой поверхности слева другая гравировка – комсомольский значок с буквами «КИМ».
Тусклый блеск серой стали. Потёртая рукоять, стёртая мушка – пистолет много раз вынимали из кобуры.
Стальная тяжесть в ладони. Холодная стальная тяжесть. Сколько ни держи в руке, он всё равно холодный.
Действие второе
«Что в имени твоём?» – так говорится у Шекспира.
Для меня они просто Он и Она.
Но у них, разумеется, есть имена. Он – Павел. Она – Анна.
Я – Всеволод, Сева.
– – –
Знакомый дом-«сталинка». На двери подъезда домофон со стёртыми кнопками. Код тот, что и прежде.
Третий этаж. Ключ, как всегда, на притолоке двери. Павлу достаточно было поднять руку. Анне, чтобы дотянуться, приходилось подпрыгивать. Он всегда над этим подшучивал.
Два дня я подолгу просиживал в сквере напротив. Ждал. На второй день, когда я уже собрался уходить, Маша, наконец, вышла из подъезда.
Точного плана я не имел. Главное – попасть в квартиру. А там – буду действовать в предложенных обстоятельствах.
Просторная прихожая. На вешалке зимние вещи в чехлах. Направо – дверь в кабинет. Полуоткрыта…
– Машенька, ты опять забыла ключи? – вдруг раздался голос Анны.
Открыл дверь в кабинет.
– А, это ты… Пришёл…
Она лежала на диване, укрытая пледом. Настоящий шотландский плед. Павел его привёз из Англии.
– Ты удивлён, что я разговариваю? Такое бывает. Это ненадолго. Когда у меня просветление, Машенька едет домой, кормить своих рыбок. Машенька… святой человек. Если бы не она, не знаю, что и было бы… Проходи, садись. Стоишь на пороге… Что у тебя лицо такое белое?
Я сел на стул у дивана. На нём, видимо, сидит Маша, когда исполняет роль сиделки.
– Понятно, зачем ты пришёл… Хочешь поговорить? После Пашиной смерти мы так и не поговорили. Ты ведь ничего о нас с ним не знаешь. Не знаешь, как мы жили. Чего молчишь, будто текст забыл? Ладно, молчи. Сама буду говорить. Пока могу. Тебе стоит это знать.
Жизнь для Павла была театром, где он всегда был в главной роли. Каждый его жест был продуман, каждая фраза – выверена. Каждый поступок должен был производить эффект.
Такова была его суть. Паша не мог жить, не устраивая представлений.
Наш с ним роман… О! Это то ещё представление! Цветы, стихи, ночные визиты в окно на третий этаж, поездки к морю после спектаклей. Помню, в Ялте, в ресторане он поднялся на эстраду и пел для меня романсы…
В этом спектакле себе Паша отвёл роль главного героя, мне – благодарного зрителя, иногда партнёра по действию. Режиссёром он считал исключительно себя. Надо отдать должное, зрителя он понимал – цветы и романсы я люблю.
Всё было настолько феерично, что я с трудом сознавала, насколько счастлива.
Любила ли я его? Да, конечно! Он был милым.
Была бы я секретаршей или домработницей, было бы у нас с Пашей всё хорошо. Может быть… Но я актриса. И не рядовая. Главные роли я уже играла, когда вы, два дипломированных несмышлёныша, только переступили порог нашего театра.
Потом я видела его на сцене. Ожидала проникновения в образы, разнообразия. Но нет… Везде был всё тот же очаровательный шалопай.
Домохозяйки в зале млели…
Мы, актёры, не любим режиссёров. Не любим, когда нам навязывают своё видение. Особенно, когда тебя учит профессии собственная жена.
Мужчины, вообще, с трудом терпят женскую критику. Но одно дело, когда его критикуют за то, что криво вбил гвоздь, и совсем другое – за просчёты в творчестве…
Сначала Паша от меня просто отмахивался. Переводил на шутку. Пытался ставить на отведённое место.
Я заявила ему, что не желаю связывать жизнь с посредственностью. Это подействовало.
Дома, после репетиций мы заново проходили его роли. Было трудно. Паша нервничал. Меня же брало отчаяние – он ничего не умел. То есть совсем ничего! Он ничего не понимал в нашей профессии. Мог играть только самого себя.
После я ходила на него смотреть. Паша возражал, но я ходила. Смотрела с галёрки. У него стало получаться – он был способным.
Сначала он соглашался на наши занятия, скрипя зубами. Но, почувствовав результат, сам стал настаивать.
Учиться Паша не умел. Пререкался, не желал признавать ошибки, переходил на личности, настаивал на своём, даже когда знал, что неправ. Втолковывать ему самые простые вещи стоило огромных трудов. Меня это изматывало. Сил уходило много, на себя не оставалось. Начались непонятные приступы. Часами я могла пролежать, не имея сил не то, что подняться – глаза открыть. Врачи сказали, что это от переутомления, надо себя поберечь. Приходилось отказываться от спектаклей.
В один прекрасный день наши занятия прекратились. Паша решил, что в них больше нет необходимости – он и так знает всё, что ему нужно. В чём-то он был прав – в театре шли одни и те же спектакли, репертуар обновлялся редко.
Мои уроки не прошли даром – Пашина популярность росла. Аншлаги, пресса, телевидение. Поклонницы...
Да, у него были поклонницы. И поклонники. Звонили домой, приходили. Подкарауливали на улице. Всякие были…
Он стал подолгу пропадать. Являлся с запахом духов.
Самое большое преступление женщины – быть умнее своего мужа. Этого мужчины не прощают.
Паша быстро забыл, кому всем обязан.
Мои слёзы его не трогали. Он говорил, что трагические сцены мне даются плохо.
Однажды между нами произошла жуткая сцена. Паша пришёл пьяный. Я собрала чемодан и сказала, что ухожу. Он наорал на меня, сказал, что уходит сам. И ушёл. А во дворе кто-то на него напал…
Мы по-прежнему жили вместе, но почти не разговаривали.
У меня начались припадки. Я вдруг теряла сознание. Потом обнаруживала себя лежащей на полу и не могла вспомнить, что со мной происходило. Минуты, часы оказывались вычеркнутыми из памяти. Это случалось дома после наших ссор, обычно, когда Паша, хлопнув дверью, уходил – потому никто об этом не знал. Припадки становились чаще и длительней. Однажды пролежала целые сутки. Врачи сказали, что проснулся недуг, перешедший бабушки, и если я не изменю образ жизни, то однажды не встану.
Продолжал ли Паша меня любить? Безусловно! Он всегда меня любил. Я это знаю точно.
Всегда удивлялась, как вы дружили – такие разные…
Хорошо, что ты выбрал «Супружеские злодеяния». Там двое потерявших друг друга ищут путь назад, в то место, где их дороги начали расходиться. Написано словно о нас с Пашей.
Почему я согласилась… Наверное, не умерла надежда…
Ты помнишь, как начиналось. Со скандалов. Паша по-прежнему ничего не умел. Приходилось Его учить заново. Как и раньше – дома после репетиций.
Но потом что-то произошло… Мы вдруг попали в резонанс, заиграли в унисон. Ты знаешь: такое на сцене не часто бывает. В Лизе и Жиле мы узнали друг друга. Перевоплощаясь в них, мы могли чувствовать друг друга, как когда-то. Наши души сливались воедино.
В те минуты я была счастлива! Счастлива, как никогда раньше!
Паша тогда лечился. Уколы ему делала я. В гримёрной всегда были шприцы и лекарство.
Укол я делала перед самым выходом на сцену, чтобы действия лекарства хватало до конца спектакля.
В день премьеры в суматохе я, видимо, забыла об уколе. После поклонов мы вернулись в гримёрную и Паша обнял меня изо всей силы. Этого его сердце и не выдержало…
Когда я увидела его последние мгновения, меня охватило отчаяние. И тут же навалилось безумие.
Однажды моё сознание вдруг включилось, как от щелчка выключателя. Я увидела себя в театре и услышала слова Жиля. Во мне вспыхнуло знакомое ощущение – предчувствие близкого счастья. Не отдавая себе отчёта, я двинулась ему навстречу.
Я живу в странной повторяющейся реальности, которая начинается в декорации за дверью квартиры героев и заканчивается сценой Пашиной смерти, которая явственно проходит перед моими глазами.
Я понимаю, что на сцене со мной не он, а ты. Но я хорошая актриса и смогла вжиться в образ. Не Лизы, а себя самой, играющей её рядом с Пашей.
Каждый раз я переживаю безмерное счастье от нашей с ним игры, нашего единения также остро, как тогда, на премьере. И затем также остро я чувствую боль от страшной потери.
Иногда я прихожу в себя, как сейчас. Ненадолго. И тогда я раздумываю о том, как это прекратить. Иного выхода, чем добровольно уйти я не вижу. Собственно, решение я уже приняла и даже написала прощальную записку. Её найдут – она лежит в ящике письменного стола.
Зачем я тебе это говорю… Зачем…
Скоро начнётся припадок. Скоро… Я чувствую... Я не боюсь. Скоро это случится… Совсем скоро… скоро… – она замолчала на полуслове, глубоко вздохнула упала на подушку. Её застывшие глаза бессмысленно уставились в потолок.
Я встал со стула и подошёл к письменному столу. В правом верхнем ящике лежал лист бумаги, исписанный ровным изящным почерком. Там Анна извиняется за своё решение уйти из жизни. Причина – мучительное ощущение вины за то, что забыла тогда сделать укол и стала невольной убийцей мужа.
Под запиской лежал знакомый мне пистолет с гравировкой и стёртой мушкой.
Пока всё складывалось удачно…
Я вынул пистолет из ящика. Подержал в руке, любуясь. Несколько минут я стоял, глядя на него и наслаждаясь кульминацией этого затянувшегося спектакля.
Вдруг сильные руки схватили меня.
– – –
– Это ты его убил, – спокойно сказала Анна, открыв глаза.
Как ни в чём ни бывало встала с дивана, накинула халат и села в кресло передо мной. Закурила, достав сигареты и зажигалку из кармана халата.
Анна курила, сквозь сигаретный дым холодно разглядывая меня, сидящего на стуле с наручниками на запястьях, не обращая внимания на двоих мужчин за моей спиной.
Докурив, она щелчком отбросила окурок. Тот трижды перевернулся в воздухе и упал точно в пепельницу на журнальном столике в другом конце комнаты.
Затем сказала задумчиво:
– Знаешь… чему я так и не смогла его научить, так вот этому трюку – попасть окурком в пепельницу с пяти шагов.
Меня удивляло, почему вы вместе – такие разные. Потом поняла: вы не вместе и никогда не были. Паша был сам по себе, и на тебя ему было наплевать. А вот ты к нему прилип. Ты был его фанатом. Поклонников у него было хоть отбавляй, но ты был самым большим.
Ты поклонялся Паше, даже создал его культ. У тебя дома все стены в его портретах – твоя бывшая мне рассказывала.
И ты мечтал, чтобы он принадлежал только тебе.
Тогда, много лет назад, ты стал ухаживать за мной не потому, что любил, а чтобы Паша не достался мне.
Не получилось. Я выбрала его.
Ты всегда стремился нас рассорить. Это ты его знакомил с теми… другими… с поклонницами.
И ту пьесу ты выбрал не для того, чтобы нас помирить. Ты знал, что мы избегаем быть на одной сцене. Хотел окончательно столкнуть нас лбами.
Не получилось. Результат оказался обратным.
Ты понял, что эту войну тебе не выиграть. И ты решил его убить. Если не твой, то ничей!
После премьеры, когда Паша меня обнял, ты подошёл сзади сделал укол. Паша был возбуждён и ничего не почувствовал. В тесноте гримёрной, в праздничной суматохе никто ничего не заметил.
Я всё поняла в один миг, когда увидела, какими глазами ты смотришь на него, умирающего.
И ещё я поняла, что за его смерть ты отомстишь мне. Найдёшь как – ты же режиссёр.
Когда до меня дошло, что Паша мёртв, безумие овладело мной. Я впала в беспамятство на несколько дней. Потом начались просветления. Они стали дольше и чаще. Болезнь начала отступать. Но я продолжала играть больную – теперь речь шла о моей жизни.
Я хорошая актриса! Обманула всех, даже врачей! Маша была единственным человеком, посвящённым в тайну.
В одно из моих просветлений я узнала, что ты вознамерился сам выйти на сцену. Да ещё в роли Жиля. В его роли!
Не смог заполучить Пашу живого – решил присвоить после смерти.
Я не могла позволить тебе присвоить моё лучшее произведение.
Да-да! Паша был моим произведением! Я его создала! И все его роли были моими творениями. А роль Жиля – лучшим из них.
Маша привезла меня в театр. Когда ты произносил монолог Жиля, болезнь внезапно отступила. Я не могла этим не воспользоваться. Играла я, держась за сознание из последних сил. Но я поняла, что через месяц смогу это повторить. И дала тебе это понять. Ты – поверил. Все поверили!
Ты так поверил, что ввёл меня в спектакль. Сумасшедшую актрису! Зачем? Надеялся, что я умру прямо на сцене?
Там, на сцене я играла не с тобой – я играла с Пашей. И ты это понял – я таки хорошая актриса!
Я доказала тебе, что Паша не будет твоим даже после смерти. Он навсегда мой!
Я тогда не сделала укол, не потому что забыла, а потому что не нашла лекарства. Пропала не начатая пачка. Бежать в аптеку было поздно – уже надо было идти на сцену. Маша потом нашла коробку из-под лекарства на хоздворе в мусорном контейнере. Случайно. Когда выбрасывала мусор. Все ампулы были пустыми. Ты всадил в него десятикратную дозу. И здоровое сердце не выдержало бы.
Коробку Маша отдала кому надо. На ней обнаружили твои отпечатки и дело решили не закрывать. Но главную улику – шприц – не нашли. Потому тебя и не обвиняли.
Ты выдал себя одним взглядом. Одним взглядом! Другой на моём месте не понял бы. Но я – актриса! Ненависть, презрение и любовь в одном взгляде – это из глубины души, такое не сыграешь.
Я всё надеялась, что те, кто занимается расследованием, таки доведут его до логического конца. Видно, зря надеялась. Пришлось всё брать в свои руки. Как всегда.
Заманить тебя в ловушку было просто – я изменила в моей роли одну только букву, и ты запаниковал. Осталось написать предсмертную записку, положить рядом с ней пистолет и просто ждать.
Как любой убийца, ты страдаешь манией превосходства. Ты и допустить не мог, что пока ты следил за моей квартирой, другие следили за тобой.
Теперь ты в наручниках. Всё закончилось.
– – –
Анна замолчала. Достала из кармана халата сигаретную пачку. Вынула сигарету. Вставила её в рот. Вернула пачку в карман. Достала зажигалку. Щёлкнула. Поднесла огонь к сигарете.
– Сколько раз за свою жизнь ты сказала: «Я неправа»? – спросил я.
Она замерла. Некоторое время смотрела на меня поверх огня. Потом закрыла зажигалку, забыв прикурить.
– Что ты имеешь в виду? В каком смысле?..
– В прямом. Сколько раз за свою жизнь ты сказала: «Я неправа»?
Она вынула сигарету изо рта.
– Ты сказала, что Паша настаивал на своём, даже когда знал, что неправ. Сказала это с осуждающей интонацией. Теперь я спрашиваю тебя: сколько раз в жизни ты признала, что неправа?
– Не понимаю, как это относится к… к делу…
Она стала крутить сигарету в пальцах.
– Ты уверена, что права. Ты уверена, что всегда права. Ты уверена, что права и сейчас. Ты уверена, что все твои оценки, твоя трактовка событий правильны. Так?
– Ну разумеется!
– Ты уверена, что умеешь, правильно устанавливать причинно-следственные связи и вскрывать мотивационную основу поступков. Так?
– Безусловно! К чему ты клонишь?
Её пальцы сломали сигарету. Она раздражённо бросила обломки на пол.
– Ты сказала, что я был Пашиным фанатом. Что я его любил. Это якобы стало мотивом поступка, который ты мне приписала. Я его любил настолько, что убил, чтобы он не достался тебе. А почему, собственно, ты так решила?
– Ну… это же очевидно! Я говорила… Ты всё время около него отирался, у тебя дома все стены в его портретах!
– Все стены в его портретах! Ты поверила моей бывшей? Разве ты не знаешь, что бывшие всегда говорят гадости? Там только три фотографии. На двух мы с Пашей вдвоём ещё студентами. А третья – действительно его портрет. Он мне его подарил. И подписал. А я ему свой. Мы фотографировались у знакомого фотографа. Потом обменялись портретами на память. Я его портрет повесил на стену. Он мой – нет. Потому что это твоя квартира. Тот портрет и сейчас где-то в его вещах. Поищешь – найдёшь.
Говоришь, я всегда был около него? Да, это так. Паша для меня был больше, чем другом. Тебе это трудно понять. У тебя была семья. А у меня семьи не было. Я вырос в детдоме. Паша был первым человеком, который не пожалел для меня душевного тепла. Говоришь, я к нему прилип, хоть ему было на меня наплевать? Да, он был эгоистичен. Да, я в нём нуждался больше, чем он во мне. Но всё же мы были друзьями. Такая это была дружба. Тебе не понять. Ты не знаешь, что такое дружба – у тебя нет ни одного друга. Ты никогда не задавалась вопросом: почему?
– Причём тут это?! Это, вообще, к делу не относится!
– Именно это и относится к делу. В этом корень всего.
– Я понимаю, зачем ты всё это говоришь…
– Нет, не понимаешь! И не пытаешься меня понять! Ты даже меня не слушаешь. Пока я говорю, ты придумываешь удобное объяснение моим словам. Такое, которое умещается в твоей картине случившегося.
– Эта моя картина верна! Тебя схватили с пистолетом в руках! Ты собирался в меня стрелять!
– Стрелять в тебя? Разве я направил на тебя пистолет и нажал на спуск? Я просто держал его в руках!
– Потому что ты – убийца!
– Это ты так решила! Ты! Ты приписала мне убийство, всего лишь поймав один мой взгляд. Один взгляд! А ты уверена, что правильно его поняла? Ты уверена, что знаешь, на кого я в тот момент смотрел?
– Ты смотрел на Пашу.
– Как ты можешь это знать? Он умирал, и всё твоё внимание было приковано к нему. Другие – кто были рядом, и я тоже – в тот момент для тебя не существовали. Ты если их и видела, то боковым зрением. Потом, когда пришла в себя, ты вспомнила эту смутную картину и додумала детали. Тебе нужно было объяснение случившемуся, и ты его придумала.
– Придумала! Ну-ну… Что ещё у меня не так?..
Она снова достала сигареты. На этот раз закурила.
– Ты вообразила, что я ухаживал за тобой, чтобы Паша не достался тебе. Бред! Где ты такое видела? В какой-то пьесе?
– Если ты меня действительно любил, почему же так легко уступил Паше?
– Действительно, я был влюблён… Когда увидел, каково ему с тобой, это прошло без следа.
– Вот как? Интересно… И каково же ему со мной было?
– Паша мне многого не говорил. Но однажды всё-таки рассказал. Про эти… про ваши занятия.
– Да?.. Не думала, что ты знаешь.
– Зачем было его ломать?
– В каком смысле?..
– Паша был талантливым человеком, очень способным…
– Твой талантливый ничего не умел! Не знал простейших актёрских приёмов! Это я его всему научила! Я научила его мастерству! Я сделала его профессионалом! Паша всего добился благодаря мне!
– Он и правда многого не умел – брал не мастерством, а обаянием. Не было опыта. Ты сама назвала нас с ним дипломированными несмышлёнышами. Паше надо было время, чтобы раскрыться. Зачем было его насиловать?
– Не надо было насиловать? Пустить на самотёк? Вот уж нет! Знаешь, сколько таких талантливых рутина засосала? Сколько спилось только потому, что их предоставили самим себе? Я с ним связала жизнь. Я его приручила – я за него в ответе!
– Паша очень тебя любил и не мог сопротивляться твоему напору… Если бы ты знала, как ему было с тобой трудно!
– Говори, что хочешь… Главное – результат. Благодаря мне он стал настоящим профессионалом. Признанным!
– Скорее, вопреки тебе.
– Так! Это переходит все границы. Не желаю слушать этот поток больного сознания. Эй, вы, двое! Уводите его! Вы его задержали с поличным. Идите, оформляйте ваши протоколы.
Я услышал, как двое за моей спиной поднялись с кресел и направились ко мне.
– Ростом Паша был выше тебя на голову, – продолжил я, не обращая ни них внимания. – Когда он тебя обнял, ты не могла ничего видеть. Ты не могла видеть того, кто был у него за спиной.
Те двое, помедлив, вернулись на свои места.
– Там был ты! Я увидела, когда Паша упал.
– Когда Паша упал, все расступились, и я оказался рядом.
– На коробке из-под лекарства твои отпечатки. Твои!
– Не помнишь, откуда они взялись? Накануне у вас закончилось лекарство, и ты попросила меня сходить в аптеку. Я принёс ту пачку. Потому там мои отпечатки. На ампулах их ведь нет?
– Ты их стёр.
– С ампул стёр, а с коробки нет?
– К чему ты клонишь? Не хочешь ли ты сказать, что это я его убила?
– У тебя были и возможность, и мотив.
– Твоему цинизму нет пределов! Я убила любимого мужа в самый счастливый день моей жизни! – она вскочила из кресла, сделала несколько шагов, но вернулась в него. – Ладно, отставим эмоции. С возможностью понятно. А как насчёт мотива? Здесь ты что придумал?
– Паша хотел от тебя уйти. Ты не хотела отпускать. Ещё бы! Ты считала Его своей собственностью. Даже отказалась от карьеры, чтобы вылепить из Него свою Галатею. Не могла же ты позволить Галатее просто так сойти с пьедестала и выйти в дверь! Если не твой, то ничей!
– У тебя нездоровая фантазия!
– Помнишь, когда он попал в больницу? Всё было не так, как ты говоришь! Тогда ведь не ты собрала чемодан, а он. И он таки ушёл! А во дворе его ударили по голове и отобрали чемодан. Не ты ушла от него, а он от тебя! Как ты, вообще, могла отсюда уйти? Это ведь твоя квартира! А может, тогда это ты его по голове ударила?
– Да?.. Не знаю… может быть… В семейной жизни чего только не бывает… Не смотри на меня так! Я его не убивала. Ударить по лицу в порыве гнева и хладнокровно подготовить убийство это не одно и то же. Я его не убивала!
– У тебя были и мотив, и…
– У тебя было то же самое! И мотив, и возможность. Паша умер от передозировки того лекарства. Это совершенно точно – экспертиза установила. Мотив был только у тебя. Хорошо – и у меня, если тебе угодно. Но я его не убивала. Значит, укол Паше сделал ты!
– Но я не делал этого!
Некоторое время мы сидели молча. Потом Анна сказала:
– Допустим, я тебе поверила – ты его не убивал. Только допустим. Но это значит, что мотив был у кого-то ещё. В общем-то, ничего удивительного – в нашем серпентарии его успеху завидовали многие. Кто-то из братьев-лицедеев мог и постараться…
Анна помолчала, потом вдруг спросила:
– Послушай, дорогой! А почему ты здесь? Не приходил-не приходил проведать больную, а тут взял и пришёл! Не потому ли, что я тебя заманила?
– Потому. Ты на сцене изменила текст, чего никогда не делала. Сразу стало ясно, что никакая ты не больная. Вот и пришёл посмотреть на тебя вживую. А ты целое представление разыграла – суицидальную комедию. Теперь-то я понимаю – это для того, чтобы я полез в стол читать твою предсмертную записку и из чистого любопытства взял в руки пистолет. Чтоб в этот момент меня и сцапали.
– А я и сейчас считаю, что Пашина смерть – твоих рук дело. И тебе надо отомстить. Но за это тебя не посадят – ты не оставил прямых улик. Значит, надо посадить тебя за что-то другое.
– Ты решила тупо меня подставить.
– A la guerre comme a la guerre!
– Это подло. На тебя непохоже. Сама додумалась?
– Тебе-то что? Какое это имеет значение?
– Имеет! Сама, или кто помог?
– Почему ты думаешь, что мне кото-то помогает?
– Потому что ты исполнитель. Не драматург, не режиссёр – исполнитель. Ты готовый текст изменить не в состоянии, а тут целая пьеса! Тебя явно кто-то надоумил. Кто-то всё придумал и научил тебя, что делать. Кто?
Вдруг распахнулась дверь и вошла Маша.
– Ну, как прошло? – спросила она, подслеповато щурясь.
Действие третье
Сколько ей лет? Никогда не задумывался… Лет сорок–сорок пять? Или все шестьдесят?
Непропорциональное лицо – широкий лоб, узкий подбородок, выступающие скулы, впалые щёки, узкие в ниточку губы, маленькие бесцветные глаза. Она близорука, но очки почему-то не носит. Когда накладывает грим, наклоняется к самому лицу.
Её не замечают, будто она часть гримёрной: шкаф, зеркало, кресло, Маша, вешалка.
– Да. Всё придумала я.
Мизансцена такая. Я сижу посреди комнаты на стуле. На моих запястьях наручники. За моей спиной в креслах те двое, что их надели. Сидят тихо – они здесь зрители. Передо мной в кресле – Анна. Курит одну сигарету за другой. Взяла со стола пепельницу, поставила рядом с собой на пол. Слева от меня – Маша. Сидит выпрямившись, не касаясь спиной спинки стула.
Мы образуем равносторонний треугольник.
В детстве любил геометрию...
– Всё придумала я, – повторяет Маша и замолкает, ожидая реакции.
Реакции нет. Анна обдумывает ситуацию – нервно затягивается, глаза лихорадочно блестят. Я молчу преднамеренно, чтобы усилить нервозность обстановки.
Когда Маша разговаривает, трудно понять, куда смотрят её глаза. Так и сейчас – она начинает говорить непонятно кому.
– Так дальше продолжаться не может. Следователи ничего не делают. У них есть подозреваемый, но не собираются привлекать его к ответственности.
Её бесцветный голос смолкает. Видимо, сказанное это реплика, за которой должны последовать слова другого действующего лица, по логике мои. Но я держу паузу.
Впервые вижу, как Маша волнуется. Её бледное лицо покрывается красными пятнами.
– Павел был вампиром! – говорит она. – Он высосал из Анечки все соки!
Я и сейчас не понимаю, почему Аня вышла за него. Поклонников хватало. Были очень хорошие партии – солидные мужчины с положением, с деньгами. Могла бы сейчас жить в столице, играть в престижном театре. Или совсем не работать. Так нет! Меня не послушала – вышла замуж за эту бездарь… К тому же младше на шесть лет. На шесть лет! Что в нём было? Смазливое лицо и бесстыдные манеры – всё!
Павел ничего не умел. Ничегошеньки! За что ему только диплом дали! Впрочем, нет, какие-то способности у него были. Он был пластичным, общительным, у него была хорошо поставлена речь.
Гримёр иногда знает актёра даже лучше, чем режиссёр. А как иначе? Это ведь гримёр вводит актёра в образ. Актёр видит в зеркале, как рождается его персонаж, и тот возникает в его душе. Я такое чувствую. В случае Павла этого не было. У него было слабое воображение, примитивные эмоции. В зеркале он видел лишь своё лицо под слоем грима.
Что он мог дать Анечке? Деньги? Положение? Его мечты, цели, желания ограничивались его полем зрения. Он был способен желать лишь то, что видели глаза. Что говорить о сверхзадаче жизни, если он с трудом понимал сверхзадачу роли! Это был заурядный типажный актёр – несколько лет успеха у невзыскательной публики, а потом… Потом забвение. Сколько таких…
Я сказала Анечке сразу: не связывайся! Он пойдёт на дно и тебя за собой потащит. Не послушала… Такая она, эта любовь…
Анечка считала его лучше всех. Её Пашенька – самый-самый! Но я ей глаза открыла. Уговорила-таки походить на его спектакли, хоть с галёрки посмотреть. Павел-то против был, не хотел, чтоб Анечка смотрела. Но я уговорила. Она походила, посмотрела. Стала соображать, что там к чему. Она же – талант, не чета Павлу! Любовь любовью, а профессия профессией.
Очень Анечка тогда расстроилась. Очень... А как иначе? Поняла, своими глазами увидела, что её возлюбленный – посредственность. Она, такая талантливая, актриса от Бога! связала жизнь с ничтожеством, с пустым местом. Влюбилась в блестящую обёртку, а внутри-то ничего…
– Маша, ты преувеличиваешь! – сказала Анна.
– Да не преувеличиваю я! Всё, как есть говорю. Бестолочью был твой благоверный, и никак по-другому.
Мне бы тогда тихонько в сторону отойти, да подождать. Они бы и разошлись. Помучилась бы она, конечно, но то лишь на пользу. Так нет! Жалко мне её стало! Жалко! Научила, как ей быть. Правильно говорят: от добра добра не ищут…
Чему научила? Не зря говорят, что мужчину делает его женщина. Какого мужа тебе Бог послал, такой он и есть – тут уж ничего не поделаешь. Господу виднее. А вот дальше – то уже твоё дело. Какого захочешь – такого и воспитаешь. Главное – правильно взяться, а уж взялась – не отпускай пока не добьёшься своего.
Не умеет он – это плохо. Но ведь можно научить! А там глядишь и путное что из него получится.
Не сразу, но я её уговорила. Почему не сразу – понятно: не всякая решится мужа своего, как малого ребёнка, воспитывать. Мы-то, женщины, что в мужике ищем? Силу. Чтоб он опорой был да защитой. Признать, что он слабее тебя, ух как непросто бывает!
Намного труднее было ей уговорить его. Павел-то мнил о себе, что он – о-го-го! – целый мачо! Учиться ему зачем? Он и сам кого хочешь научит!
Но уговорила.
Тот и сам потом понял, что от Анечкиной науки есть результат. Не дурак ведь – умел отличить овации от простых аплодисментов.
Тут он свою вампирскую сущность и проявил. Впился в Анечку, как клещ-кровосос, чтоб она его учила как следует. Житья ей, бедной, не было. Даже бывало, по ночам спать не давал – только, чтоб занималась с ним.
Выпил он Анечку без остатка! Выпил и бросил. Даже «спасибо» толком не сказал. Всё, что она ему дала, себе одному присвоил. Бросил он её, а сам стал плоды пожинать. В одиночку. Себе – всё, ей – ничего. Анечка ради него карьерой пожертвовала, здоровье испортила – припадки у неё начались. Только ему было наплевать. Как же! Он же звезда! А родная супруга – так себе, отработанный материал.
И после такого они продолжали жить вместе! Тут уж не любовь, ту какой-то стокгольмский синдром.
Чем бы это закончилось, если бы и дальше продолжалось? Замучил бы он Анечку до смерти. Или того хуже – до сумасшедшего дома.
– Маша, ты неправа, – снова вмешалась Анна. – Ты судишь предвзято, смотришь со стороны и всего не знаешь. Паша был совсем не таким. И кто в кого впился – он в меня или я в него – это как поглядеть.
– Скажешь, что он тебя не бросил? – прищурилась Маша.
– Нет, не бросили. Отдалился, да. Но не бросил. Паша меня любил. А я – его.
– Бросили-не бросил… Тебя послушаешь…
Тут вступаю я:
– Если Паша был таким плохим, значит, хорошо, что он умер?
– Нет, не хорошо! – возмутилась Маша. – Убийство – грех! Убивать нельзя! Анечке надо было его просто выгнать.
– Ты указываешь ей, что делать? Не понимаю, почему обычная гримёрша принимает такое активное участие в жизни актрисы!
Женщины переглянулись. Анна, помедлив, сказала:
– Потому что она моя сестра.
– – –
– Ты удивлён? У нас один отец. Машу ему родила его жена, а меня другая женщина – моя мать. Потому мы непохожи, и между нами разница в пятнадцать лет.
– Но тогда, выходит, что у неё есть мотив!
– Мотив? Какой мотив? – не поняла Маша. – Причём здесь музыка?
– Музыка не причём. Он хочет сказать, что ты убила Пашу.
– Я? Убила?!
– Ты пыталась их поссорить, делала так, чтоб они расстались, – сказал я. – Когда поняла, что не получится, решила его убить. Надела перчатки, взяла коробку с лекарством, которую я принёс, достала ампулы, наполнила шприц, а потом в толпе, когда на тебя не обращали внимания – на тебя вообще не обращают внимания – сделала укол. Потом предала коробку следователю, чтобы подставить меня. А чтоб уж наверняка, ты придумала этот спектакль с мнимым самоубийством. Ты, простой гримёр, сама придумала фабулу, написала сценарий, всё срежиссировала, актрису натаскала, зрителей пригласила…
– Да, я многое умею. И режиссёр я не хуже некоторых – ты-то купился! Но Павла я не убивала. Не могла я этого сделать! – воскликнула Маша.
– Могла!
– Нет! Не могла!
– Конечно, могла! Что тут сложного? Почему не могла?
– Вот потому!
Анна поднесла к моему лицу свои руки. Они были ужасны: деформированные кисти, распухшие суставы, искривлённые пальцы.
– Это, дорогой, называется артрит! Я даже пуговицу застегнуть не могу, не то, что шприц набрать!
– Как же ты работаешь? Ты же гримёр! Грим накладывают руками.
Вмешалась Анна:
– Маша работает только со мной. Мы приспособились. Гримируюсь я сама. Маша помогает советами – подсказывает, что и как делать. Сама же делает только то, что в состоянии.
Наступило молчание.
– Интересно получается, – сказал я. – Здесь сидят три человека. Среди них убийца. Но никто не хочет признаться.
– Признавайся ты. Это ведь ты его убил, – сказала Анна.
– Я этого не делал. У меня для этого нет мотива. Это кто-то из вас двоих.
– Я не убивала Павла! – возмутилась Маша. – Я просто не могла это сделать.
– И я не убийца, – сказала Анна. – Я Пашу очень любила. Я бы, скорей, убила себя.
– Это мог быть кто угодно из труппы, – сказала Маша. – Мужчины ему завидовали. Женщины… Павел мог какую-то отвергнуть – она не простила.
– Исключено, – сказала Анна. – Доступ к лекарству был только у нас троих.
Действие четвёртое
– Я вот что подумала, – нарушила долгое молчание Анна. – Мы же ничего о тебе не знаем, Сева.
– Зачем тебе?
– Есть что скрывать?
– Что ты хочешь знать?
– Например, почему ты сирота.
– Зачем тебе?
– Привыкла узнавать предысторию персонажа. Издержки профессии.
– Не думаю, что это важно в данных обстоятельствах.
– Не знаю. Может, и важно.
– Мне не хочется вспоминать.
– И всё же…
– Ладно… Когда мне было восемь лет, моего отца приговорили к расстрелу.
– Вот как! Что же ты замолчал? Продолжай!
– Пропали две девочки школьницы. Их потом нашли убитыми. Арестовали моего отца. Он уже имел срок, а тех девочек нашли неподалёку от места, где мы жили. Прямых улик против него не было, но судья не принял это во внимание. Мать тогда, услышав приговор, повредилась в уме. Её положили в психбольницу, там она и умерла. Меня отдали в детдом.
– Отца расстреляли?
– Да. А через год поймали настоящего убийцу.
– И тоже расстреляли?
– Нет. Дали пожизненное. К тому времени отменили смертную казнь.
– Ужасно… Я не знала…
После короткого молчания я сказал:
– You scratch my back, and I’ll scratch yours .
– Надеюсь, ты это в переносном смысле, – ответила Анна.
– Хотел бы услышать и твою автобиографию. В качестве равноценного обмена.
– В моей жизни не было таких драм…
– Не скажи. Ты тоже сирота – росла без отца.
– Ну-у-у, это не совсем так. У моей мамы был муж. Я его называла папой.
– Наверное он очень её любил, если простил измену?
– Они поженились, когда я уже родилась.
– Значит, очень любил, если взял с ребёнком.
– Можно и так сказать…
– Кем он был?
– Кем… Заведовал дворцом культуры.
– Понятно, кто открыл в тебе актрису.
– Он-не он… Мама часто болела, лежала в больнице. Просила, чтобы не оставлял меня дома одну. Он брал меня с собой на работу. Главное было не путаться под ногами. Я сидела тихонько в зрительном зале, играла с куклой. Там репетировал самодеятельный театр. Главным у них был один симпатичный старичок. Однажды он заметил меня, вывел за ручку на сцену, поставил перед труппой. Удивительно, но я не испугалась. Даже какой-то стишок прочитала громким голосом. Какой… Да! Вспомнила! «Наконец-то я в балете! Я забыла всё на свете». Все смеялись и хлопали в ладоши. Это были мои первые аплодисменты.
– А когда ты узнала, что тот человек тебе не отец?
– Недавно.
– Он сам рассказал? Или мама?
– Да нет. Не он и не она…
– Я сказала, – вмешалась Маша.
– Ты? – удивился я.
– Я. Разыскала её и объяснила, чьих она кровей.
– Но зачем?
– Зачем? Странный вопрос… Я узнала, что у меня, оказывается, есть сестра. Захотела познакомиться. У родителей я была одна, всегда мечтала о сестричке.
– А как ты узнала?
– Да! Как ты узнала? – спросила Анна. – Я как-то не догадалась раньше поинтересоваться. Отец сам тебе рассказал?
– Отец ничего не говорил. Он и сейчас тебя признавать не хочет. Думаю, и при смерти будет всё отрицать.
– Но, тогда как ты узнала? – не унималась Анна.
– В общем-то, случайно. Однажды, я пришла к родителям и ещё во дворе услыхала крики. Они ругались. При мне они не ругались никогда. Отец не допускал скандалов. Он не терпел, когда ему перечили и пресекал такое сразу. Достаточно было одного его взгляда, чтобы мать замолкала. А тут они ругались страшно, кричали друг на друга. Почему, что было поводом – не знаю. Никогда от них такого не слышала. Я испугалась, остановилась у двери, решила в дом не заходить. Когда уже повернулась, чтобы уйти, услышала, что мама крикнула: «Завёл себе бабу на стороне! Ребёнка ей сделал!». И всё вдруг смолкло. Что там случилось – ударил ли он её или что ещё – не знаю. Я бросилась оттуда опрометью. Вот так и узнала…
– Но как ты меня нашла? Как узнала, что тот ребёнок именно я? – спросила Анна.
– Нашла. Какая тебе разница как? Кто ищет, тот находит.
– Маша, расскажи! Я хочу знать!
– Ты, вроде, мне не доверяешь? С чего бы?
– Машенька, не обижайся. Конечно же я тебе доверяю. Но только расскажи… Я как-то не догадалась раньше тебя расспросить…
– Кто ищет, тот находит, Анечка! Стала узнавать, расспрашивать и нашла.
– Но как ты поняла, что это именно я? Я так на него похожа?
– Нет, совсем непохожа.
– Но, тогда как?
– Как-как… Хорошо, расскажу. Узнала, что ты актриса в этом театре – я тогда тут ещё не работала. Пришла сюда, когда ты была на сцене, сказала вахтёру, что принесла тебе новый гримёрный набор, попросила провести в твою гримёрку. Меня провели. Я поставила коробку тебе на столик и незаметно прихватила щётку для волос. Помнишь, как у тебя пропала щётка для волос, а появилась какая-то коробка?
– Н-н-нет, не припомню…
– Понятное дело! Кто ж такое помнит? Тоже мне событие – щётка пропала!
– Ну а дальше?
– Сама не догадываешься? На щётке твои волосы были. Я взяла их, взяла волосы нашего отца с его расчёски и заказала анализ на отцовство. Это просто делается – по ДНК. Так и оказалось, что ты его дочь с вероятностью девяносто пять процентов.
– Ну ты даёшь, Маша… Сколько тебя знаю… Никогда б не подумала…
– Я же говорю: кто ищет, тот находит.
Я сказал:
– С такими талантами и простая гримёрша…
Машины близорукие глаза так на меня глянули, что у меня мурашки пошли по коже.
– Главное не кто ты, а какой ты! Забыл, что ли?
– От того, кто ты, понятно какой ты, – парировал я.
– Не путай, голубок! Это в театре у всех свои амплуа, да типажи. А в жизни всё может быть очень даже наоборот. На сцене влюблённый должен быть худым, иметь средний рост, длинные ноги, выразительные глаза и высокий голос. А в жизни, если он высокий и толстый с короткими ногами, так ему и влюбляться нельзя?
– Хорошо-хорошо! Не спорю! Аня, ты Маше сразу поверила? Я как-то не представляю: приходит ко мне незнакомый человек и говорит, что он мой брат. Да я его пошлю куда подальше!
– Понимаешь, Сева… Маша была очень убедительна. Кроме того, папа подтвердил, что он мне не родной.
– Папа подтвердил. А мама?
– У мамы я спросила, она сразу разволновалась. Ей нельзя – она очень больна. Ей стало плохо. «Скорую» вызывали. Больше я с ней об этом не заговаривала.
– Оказывается, ты, Маша, можешь быть убедительной…
– Мне непонятен твой тон, – она посмотрела на меня непривычно ясным взглядом. Мне стоило усилий его выдержать.
– Ты сказала, что постояла у двери и не стала заходить в дом. Не в квартиру, а в дом. У твоего отца свой дом?
– Да, – ответила Маша с достоинством.
– Большой?
– Немаленький.
– Он состоятельный человек?
– Не из последних.
– Тогда почему ты простой гримёр?
Машино лицо покрылось красными пятнами. Она уже хотела сказать что-то резкое, то тут вмешалась Анна:
– Я не помню, чтоб у меня пропадала щётка для волос…
– Да кто такое помнит! – ответила Маша резко.
– Не скажи, Машенька! У меня профессиональная память.
– Это же мелочь!
– Мелочи обычно я и запоминаю. И я не помню, чтоб на моём столе появлялась какая-то коробка.
Я сказал:
– В твоей жизни, Маша, есть что-то, о чём ты не рассказываешь.
– С чего ты взял? – Машино лицо было пунцовым.
– Дети состоятельных людей не бывают простыми рабочими.
– Да что ты ко мне пристал с этим!
– Не стоит темнить, Маша. Речь идёт об убийстве.
– Я понимаю! Ты вытягиваешь мою подноготную, чтоб найти повод обвинить в нём меня!
– Маша! Видишь, что на моих руках? Это называется наручники. Так вот: я хочу их снять. А для этого я должен найти настоящего убийцу. Это или Аня, или ты!
Анна сказала:
– Маша, а как выглядела та щётка? Можешь её описать?
– Ты мне не веришь? Недоверие, Анечка, это грех! Не гневи бога! Почему ты мне доверять перестала? Наслушалась этого лукавого? Сколько лет мы с тобой душа в душу… А сказал этот два слова, и ты всё забыла? Кого ты слушаешь? В нём бес сидит! Разве не видишь? Он же убийца! Он твоего супруга законного убил! Он! Он убийца! И отец его убийцей был, и он убийца! Тех отроковиц его отец убил! Именно он! То я точно знаю! Точно! Правильно его расстреляли! Правильно! И этого расстрелять надо!
– Маша! Машенька! – заволновалась Анна. – Успокойся! Да что с тобой? Успокойся! Что случилось? Я никогда тебя такой не видела! Успокойся! Сейчас во всём разберёмся!
Она встала со стула, шагнула к Маше и хотела её погладить по голове, но та оттолкнула её, бросилась ко мне и, схватив за воротник куртки, стала трясти, крича: «Убийца! Убийца!». Мне в наручниках с трудом удалось оторвать от себя её руки. Анна усадила её на стул. Та как-то сразу успокоилась.
Я сказал:
– Вот это актриса! Учись, Аня! Видела, как она гнев разыграла? Ты же поняла, почему? Чтоб сбить тебя с мысли.
– С какой ещё мысли? – не поняла Анна.
– О пропаже щётки, которая у тебя никогда не пропадала.
Маша крикнула:
– Закрой свой чёрный рот!
– Я таки прав, – отметил я.
– Да, действительно, Маша, я слежу за своими вещами. Точно могу сказать: такого случая не было.
Маша не ответила. Её лицо по-прежнему было красным.
– Маша, а кто тогда провёл тебя в гримёрку? – спросила Анна.
– Какая разница кто?
– Ответь, пожалуйста!
– Вахтёр, старичок такой.
– Дядя Петя? Который умер в прошлом году? Да он в гримёрки и не заходил никогда! Откуда он знал, где мой столик?
– Не знаю! Он показал.
– Ты попросила показать столик актрисы, шатенки, которую зовут Анна? И он показал?
– Ну да…
– Он тебе не мой столик показал! Не мой! То был столик Лурье! Она тоже Анна и тоже шатенка. Мы с ней раньше одной гримёркой пользовались. Ты её щётку взяла с её волосами.
– Такого не может быть!..
– У неё всегда вещи пропадают. Она страшно рассеянная. Я уверена, когда у неё пропала та щётка, она этому просто не придала значения – привычное дело. Выходит, Маша, мы не сёстры. Выходит, что твоя сестра не я, а Аня Лурье.
– Как это не сёстры? Как? После всего… – она расплакалась. – Я не хочу… Не хочу… Хочу, чтоб мы были сёстрами… Мы сёстры!..
– Машенька, не плачь! Я тебя люблю, как и прежде, – Анна и сама чуть не плакала. – Ну хочешь, опять тот анализ сделаем? Может, я неправа? Может быть, мы-таки сестрички…
Она обняла, Машу и обе расплакались.
Выждав, когда они успокоятся, я сказал:
– Маша, ты сказала, что точно знаешь – те убийства совершил мой отец. Позволь спросить: а откуда, собственно, ты это знаешь?
Маша не ответила. Анна подошла к дивану, достала из-под подушки пакет с салфетками, вернулась, протянула его Маше, взяла себе несколько. Некоторое время женщины приводили себя в порядок. Потом Маша сказала:
– Наш… мой отец судья. Он твоего и приговорил. Он рассказывал. Я ему верю.
– Было бы удивительно, если бы он говорил другое, – возразил я. – Какой судья признает, что допустил судебную ошибку!
– Я верю своему отцу!
– А я верю своим глазам! Когда совершались те убийства, мой отец был дома с нами. Мать на суде так и сказала. Но судья просто отмахнулся. Он сказал, что показания близких родственников принимать к сведению не будет – те всегда выгораживают преступника.
– Правильно сказал! Ты и сейчас его выгораживаешь!
Она бросила на меня взгляд, полный лютой ненависти.
– Но тогда получается, что у Севы есть мотив, – медленно произнесла Анна, глядя на Машу.
– Что ты имеешь в виду? – спросила та.
– У него был мотив – месть. Он хотел отомстить за отца.
– А Павел тут причём?
– Павел тут случайная жертва. Допустим, он как-то узнал, что ты дочь того судьи, который приговорил его отца. Он украл лекарство, зарядил шприц и спрятал его в кармане. А потом в толпе – он ведь заранее знал, что после премьеры всегда столпотворение – он сделал укол. Но в толчее в тебя не попал, и всё досталось Паше.
– Да-да! Я вспоминаю! Мы с ним стояли у Павла за спиной. А когда он тебя обнимал, мне пришлось шагнуть в сторону! – она посмотрела на меня с ненавистью. – Так ты, значит, не Павла, ты, значит, меня хотел убить!
– Что за ерунда! Я только сейчас узнал, чья ты дочь! И другое: даже если это так, какой смысл мстить тебе? Логично найти твоего отца и убить его. И если я этого так хотел. Почему до сих пор этого не сделал?
– Добраться не смог! У него охрана! А до меня добраться просто.
– А смысл ему мстить, убивая тебя? Ему же на тебя наплевать!
– Нет! Совсем не наплевать! Он меня любит!
– Любил бы, ты бы сейчас загорала на Лазурном берегу и забот не знала. А ты получаешь нищенскую зарплату и живёшь в однокомнатной хрущёвке.
– А вот это не твоё дело! Не твоё! Почему я живу в хрущёвке – значит, так надо. Значит, есть причина.
– Машенька, а ведь Сева прав. – сказала Анна. – Это ведь странно, что дочь судьи бедно живёт. Судьи богатые люди. Почему же он о тебе не позаботится, не поддержит материально?
– И ты туда же Аня! Я же сказала – есть причина!
– Серьёзная, видно, причина, если даже я не знаю.
– Да кто ты такая…
– Маша!
Я сказал:
– Маша, если честно, что ты делала в том доме? Полы мыла?
– Ты сволочь, Сева! – воскликнула Маша.
– Угадал! Полы мыла. Или была кухаркой.
– Тот человек – мой отец! А его жена – моя мать!
– Видишь, Аня, как она говорит! Не «мои папа и мама», а «тот человек и его жена». Не какая она им не дочь. И тебе не сестра. И Ане Лурье – тоже. Хочешь, Аня, расскажу тебе, кто такая Маша? Та Маша, которую ты считала сестрой. Слушай! Тебе она не сестра и тот человек ей не отец. Возможно, у неё вообще никого нет. Она одинокий человек, который придумывает себе родных людей. Поработала прислугой у судьи, потом ушла. Или её прогнали – почему нет? Она и придумала себе, что то её отец, просто у неё с ним ссора. Увидела тебя на сцене, и захотелось ей иметь такую сестру. Пришла и стала уверять тебя, что ты тоже дочь того человека, и вы сёстры. Ты стала узнавать, и оказалось, что твой отец тебе неродной, а мать не хочет признаваться от кого забеременела. Совпадение, но Маше ты поверила. Она умеет быть убедительной. Про анализ ДНК она придумала только что. Сочинила наспех. Неудачно. Ты заботишься о своих вещах и хорошо помнишь, что твои щётки для волос никогда не пропадали, а значит вся эта история касается не тебя, а Ани Лурье. Поняв ошибку, Маша стала бросаться на меня, чтобы отвлечь тебя этих простых умозаключений.
– У меня сейчас мозги закипят… – пробормотала Анна, обхватив голову руками.
– Я это вот к чему, – продолжил я. – Маша единственный человек, у которого есть мотив убить Пашу.
– Какой же? – спросила Анна, посмотрев на меня.
– Тот самый мотив, что ты приписала мне. Для неё ты слишком желанная добыча, чтобы с кем-либо делиться, тем более с Пашей.
Вдруг заговорила Маша:
– Хорошо… Только, чтобы прекратить иезуитство этого одержимого… Отец и правда прогнал меня. Купил ту хрущёвку и сказал, чтоб на глаза ему не показывалась. Вот за это…
Она неуклюже закатила рукава кофты и показала руки. Они сплошь были покрыты застарелыми следами уколов.
– Я лечилась… – продолжила Маша. – Лечилась, а потом снова… Был один путь вырваться… Чтобы появился кто-то близкий… Тот, кто лучше… выше… чище… Да, Анечка, я тебя обманула. Извини. Я случайно попала в театр… увидела тебя… Поняла, что ты тот, к кому я хочу прикипеть душой…
– Тогда у неё точно есть мотив, – сказал я.
– Как ты можешь, Сева! – воскликнула Анна. – Как можно быть таким чёрствым!
– Какие вы чувствительные! Ах! – съязвил я. – И Пашу она убивали исключительно из сантиментальных соображений.
– Она не убивала Пашу! Она не смогла бы это сделать. У неё артрит!
– Наркоманка не смогла бы сделать укол? Не смеши меня! Да, у неё болезнь наркоманов – инфекционный артрит. Я-то думал, откуда такая болячка в пятьдесят лет! Они и с этим ухитряются колоться. Сама не может – кого-то попросит. О! Кстати! Не ты ли говорила, что вы приспособились – ты гримируешься сама, а она делает только то, что может? Так вы и Пашу убили – ты набрала шприц, а она сделала укол. Нажать на поршень она может. Видала, как она меня схватила за воротник? Руки работают! Вы Пашку убили! Вы! Вы вдвоём!
Взрыва не произошло. Женщины смотрели на меня молча. Маша с ненавистью, Анна растерянно. С минуту стояло молчание. Потом Анна сказала:
– Ты сам себе противоречишь. Если я хотела убить Пашу, потому что он собрался уходить, зачем Маше мне в этом помогать? Ей надо бы меня отговаривать, чтоб я не рисковала собой.
– А ты ей не сказала, что он уходит, – ответил я. – Наоборот – уверяла, что он тебя убить хочет.
– И правда иезуитство какое-то!
– Логические умозаключения.
– У тебя извращённая логика.
– У меня на руках наручники.
– Правильно! – вступила Маша.
– Как ни крути, Пашу убил ты. Больше некому, – сказала Анна, однако, не так уверенно.
Мы опять замолчали.
Я спросил:
– Аня, давно хотел спросить… Если без дураков, откуда у тебя эта квартира? Директор дворца культуры вряд ли может позволить себе такую роскошь.
Анна помолчала, нахмурившись. Потом сказала неохотно:
– Если без дураков, говоришь… В общем… мне её подарили.
– Подарили? – не удержалась Маша.
– Это было в конце девяностых… Я была начинающей актрисой. И… ну, в общем… у меня был поклонник…
– Вот как! – воскликнула Маша. – Кто же он? Я его знаю?
– Теперь это неважно, Машенька. Этого человека больше нет.
– Умер?
– Да, умер… Убили.
– А ты, Аня, оказывается… – начал я.
– То дела прошлые! – перебила она. – Похоронено и забыто.
– Может, и похоронено, но квартира-то осталась!
– У тебя, Сева, действительно чёрный язык. Как я раньше не замечала…
– Говорю, что вижу! Оказывается, наш ангелочек, Анечка, образец чистоты и порядочности, была содержанкой у богатого папика!
– Да, Аня, я как-то не ожидала, – вставила Маша.
– Почему сразу содержанкой? Что вы такое говорите? Он меня любил! Очень любил! И… в конце концов… были девяностые годы! Я была молодой, глупой. Я жила в общежитии, где в дождь с потолка лилась водопадами вода. И у меня… мне есть нечего было!
– Судя по квартире, всё-таки было, что есть, – заметил я.
– Мерзавец…
Опять наступило молчание.
Маша сказала:
– Я вот что подумала… В принципе, любого из нас можно обвинить в двуличии. Все мы далеко не ангелы. Но если вдуматься, серьёзных причин убивать Павла у нас нет. Ни у кого. Одно лишь самолюбие, да ревность. Всё как-то несерьёзно. На мотив для убийства не тянет. И другое: никто из нас от его смерти ничего не выиграл. Анечка, вообще, могла умереть. Похоже, его убил кто-то другой. У кого-то ещё была возможность. Мы просто не всё знаем.
– Ты не всё знаешь, но меня ты подставила! – сказал я.
– Получается, что в этом я была неправа. Вынуждена извиниться. Но только за это! Для меня ты мерзавец, как и прежде.
– Кто ж его убил? – спросила Анна.
– Тот, кто тогда был поблизости, – сказала Маша. – Кто-то из своих, из театра. Больше некому. Павла многие не любили.
– Да, больше некому, – сказал я. – Помните, как они все разбежались, когда он упал? Никто не остался, только мы вдвоём, Аня была без сознания, да мёртвый Паша. Испугались содеянного.
– Кое-кто побежал звонить в «скорую», – сказала Маша. –Я попросила.
– Ну а мотив? – спросила Анна. – Опять же – зависть. Что кроме? Сама говоришь: несерьёзно.
Опять повисло молчание.
Я сказал:
– Аня, тот человек… Любить-то любил, но жениться не захотел. Откупился квартирой.
– Опять ты за старое! – воскликнула Анна. – Не мог он жениться! Не мог!
– Понятно. Был женат. И детей, наверное, имел. Типичная картина.
– Да! Был женат и имел детей! Тебе-то что?
– А то, что кто-то из той семьи мог тебе старое припомнить.
– Столько лет не припоминали, а теперь припомнили! Гениальное умозаключение!
– Столько лет ты жила одна, а теперь в квартиру, подаренную их отцом, другого мужика привела. Есть за что тебя ещё больше возненавидеть. Деньги у них есть – наняли кого-то из наших.
– Тогда логичнее меня убить! Пашу-то за что?
– И навлечь на себя подозрения?
– Ребята! Анечка, Сева! – вдруг перебила нас Маша. – Всё! Хватит! Давайте, прекратим всё это. Всё равно ничего не добьёмся. Не знаю, как вы, а я устала. Запуталась. Похоже, взялась не за своё дело. Ну какой из меня детектив? Всё! Признаю своё поражение. Пусть этим занимаются профессионалы. Я больше никуда не лезу, – она обернулась. – Товарищ следователь, снимите с Севы наручники. Я была неправа. Он ни в чём не виновен. Извини меня, Сева. И вы извините меня ради бога, товарищ следователь! Я вам не доверяла – втянула вас в эту дурацкую историю. Всё-таки вы профессионал. Если вы не нашли, то куда уж мне!
Действие пятое, последнее
– Получилось, сдаётся мне… – сказала Маша.
Мы с Анной согласно кивнули.
Мы сидели, как и десять минут назад, но теперь на мне не было наручников, и у нас в руках были рюмки. По первой, «за премьеру», мы уже выпили, и я наслаждался послевкусием армянского коньяка.
– Как думаешь, поверил? – спросила Маша у Анны.
– Трудно сказать, – ответила та. – Обычно я чувствую зрителя, но тут… Лицо неподвижное, как у трупа.
– Но второй смотрел с открытым ртом!
– А толку? Лейтенантик какой-то. Кто его слушать будет?
– Поверил-не поверил, а версию отрабатывать придётся, – сказал я.
– Ты имеешь в виду, семейку моего бывшего? – спросила Анна.
– Ага, её, – согласился я. – Всё равно больше у него ничего нет. А тут хоть какая-то зацепка.
– Что ж, удачи ему, – усмехнулась Анна. – Приятного полёта в Калифорнию.
– Будет основание дело закрыть, – сказала Маша.
– А ты, Аня, оказывается, о-го-го какой драматург! – сказал я. – Пьеску славную сочинила.
– Было нетрудно – придумывать не пришлось. Всё как есть, на реальных фактах, – ответила Анна.
– Анечка у нас, как всегда, на высоте! Смотрела я на тебя и сама всему верила, – сказала Маша. – И ты, Сева играешь классно, даром, что режиссёр.
– Маша, как ты меня за воротник схватила! Аж страшно стало!
Мы все рассмеялись.
– Что ж мы сидим? – спохватилась Анна. – Бокалы полны!
– Ну! – я поднял рюмку. – За систему Станиславского!
Выпить мы не успели. Распахнулась дверь и вошёл тот самый следователь с неподвижным лицом. За ним – молодой лейтенантик и ещё четверо в штатском.
– Премьеру празднуете? – спросили следователь. – Автопати, так сказать…
Говорил он без выражения. Его голос, высокий, почти женский, совершенно не вязался с крупным телосложением и сплошь седыми волосами.
– Да вы пейте, пейте, господа! Вам коньячок сейчас как никогда кстати.
Он взял ещё один стул.
– Разрешите присоединиться к вашей компании. Когда ещё доведётся находиться в обществе таких талантов!
Мы с Машей отодвинули стулья, и он сел между мной и Машей напротив Анны.
Наш равносторонний треугольник превратился в равнобедренный с Анной в качестве вершины. Биссектриса, исходившая от Анны к следователю, рассекла его на два других равнобедренных треугольника, в которых вершиной был следователь.
Актриса – биссектриса…
Спутники следователя встали за нашими спинами, и он, глядя на Анну, начал говорить:
– У этой квартиры, той, где мы сейчас находимся, интересная история. Дом построили в середине тридцатых годов. Сюда поселили одного, как тогда говорили, ответственного работника. Однажды ночью к дому подъехала машина, и его увезли. На следующую ночь увезли его семью. Квартира пустовала недолго – вскоре в неё переехал красный комбриг. Но началась война, и он ушёл на фронт. Когда город заняли немцы, здесь жил немецкий инженер, который работал на одном нашем заводе. После войны в этой квартире поселился директор того самого завода. Завод работал хорошо, и директора перевели в министерство, а квартиру отдали университетскому профессору. Прожив здесь довольно долго, он уехал читать лекции за границу, да там и остался. После него жил мясник с рынка, правда, недолго – построил себе дом за городом, а квартиру продал.
Следующий владелец умер. Лёг на простую операцию. Ему поставили обычную капельницу, а сердце вдруг остановилось.
Теперь здесь живёте вы, Анна.
В этой квартире никто не родился и не умер, ни для кого она не стала родным домом. Она всегда была лишь временным жильём, пересадочной станцией. Проклятое место.
Почему я это говорю… Старею... Старые люди любят поговорить на отвлечённые темы…
Я театрал, знаете ли. Причём, заядлый. Сыскарь-театрал! Редкое сочетание. И тем не менее. В театре бываю регулярно. Не мыслю себя без этого. Вас, Анна, видел во всех ваших ролях. Не могу не выразить восхищения. Видел я и Павла… Способный был молодой человек…
Ну ладно. Хватит предисловий.
Теперь по сути.
Сначала всё было более или менее понятно. После полученной травмы Павел страдал целым рядом хронических заболеваний, что в конечном итоге и привело к внезапной остановке сердца. На теле были следы от уколов, но оснований полагать, что какой-то из них сыграл фатальную роль, не было. Всё указывало на смерть от естественных причин, и я написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Повторяю: вначале мы не считали произошедшее убийством. Но вы, Анна, этого не знали. Более того: такой поворот вам и в голову не приходил. Вы были абсолютно уверены, что мы расследуем убийство. Почему? Потому что вы точно знали: Павел не умер естественной смертью. Его убили.
Заметьте: у нас не было оснований считать смерть Павла насильственной. Вы сами их нам дали.
Итак, я написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оставалось подписать его у начальства. И тут вы, Анна, прислали ко мне Машу. Она принесла ту коробку из-под лекарства и стала уверять, что Павел умер неслучайно – кто-то вколол ему смертельную дозу. И скорее всего, этот кто-то – Сева.
Это было вашей ошибкой, Анна. Понимаю, вы привыкли манипулировать людьми. Но тут вы себя переоценили. Я не Маша, которая от вас без ума, и ею можно вертеть, как заблагорассудится. Я профессиональный сыщик.
Я отложил уже написанное постановление и стал обдумывать Машины слова. В них было много странного. Действительно: некто, решил остановить сердце Павла его же собственным лекарством, чтобы это выглядело, как естественная смерть. Он набрал шприц и в толпе незаметно сделал укол. Затем уничтожил шприц, но коробку из-под лекарства со своими отпечатками, сохранил. Как столь предусмотрительный человек мог допустить такую нелепую оплошность?
Другое: в коробке было десять ампул по два миллилитра – всего двадцать миллилитров. Если всё было так, как вы хотели изобразить, то убийца должен был сделать внутримышечную инъекцию. Но быстро ввести в мышцу аж двадцать миллилитров так, чтобы жертва ничего не заметила, невозможно – это больно.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами я затребовал дополнительную экспертизу.
Оказалась, что сердце Павла остановилось не само собой, а от смертельной дозы хлористого калия, попавшего в организм в результате внутривенной инъекции. В первый раз эксперт неправильно истолковал повышенное содержание хлорида в крови, посчитав это одним из признаков болезни Павла.
Я мог бы рассказать об этом Маше. Но не стал этого делать. Вместо этого при нашей следующей встрече я подтвердил вашу версию происшедшего.
И стал ждать.
Интуиция мне подсказывала: Маша действует не сама – ею кто-то руководит. Следовательно, как любой манипулятор, тот человек, не получив желаемого, начнёт действовать, и сам себя выдаст.
Так и случилось.
Вчера Маша пришла ко мне в кабинет и стала уверять, будто располагает неопровержимыми доказательствами вины Севы – якобы он готовится застрелить Анну – и я могу его взять с поличным. Я решил подыграть и устроил здесь засаду.
А сегодня вы, господа, угостили меня великолепным спектаклем. Да-да! Великолепным! Глядя на вашу игру, я испытывал искреннее наслаждение. Это было здорово! А зная истинную подоплёку происходящего, смотреть было вдвойне интереснее. Вы рассматривали разные версии и сами же доказывали их несостоятельность, выводя меня на версию, выгодную вам.
Делали вы это весьма убедительно. Ваша игра, повторяю, была великолепна. Но похвалить саму пьесу, простите Анна, не могу. Были сюжетные линии, которые, вы быстро обрывали. Понимаю: вы хотели меня заинтриговать. Вы хотели, чтобы у меня появилось желание закончить их самому, и я пошёл по ложному следу, ища мотивы убийства в неоднозначном прошлом Маши, в мести Севы или родственников бывшего любовника Анны. Разумеется, на это ушло бы много времени, я не уложился бы в сроки, отведённые для следствия, и вынужден был закрыть дело.
Уж простите, но я вам не поверил. Почему? Вы перестарались. Вас подвёл ваш же профессионализм.
Вы умеете сделать, то, о чём мечтает каждый артист – превратить зрителя в соучастника театрального действа, пробудить в нём творчество.
Сегодня вам это удалось на славу. Я заразился вашей энергией, заболел вашими эмоциями. Вы словно встряхнули мои заскорузлые старые мозги, заставили их работать.
Я многое понял.
И главное: я, наконец, понял, как вы убили Павла.
Но об этом позднее. Сначала о мотиве преступления.
Сегодня вы обсуждали версии, в которых убийцей мог быть один из вас и весьма убедительно доказывали их несостоятельность. Это действительно так – какого-то одного убийцы не было. Убийцами бы ли вы все – трое.
Главная цель вашего представления – внушить мне, что ни у кого из вас не было мотива убивать Павла.
Однако мотивы были. Причём, у всех троих.
Ни ваши театральные дрязги, ни ваше прошлое здесь не причём. Всё гораздо прозаичнее.
За свою жизнь я раскрыл не одно убийство. Как показывает опыт, есть всего четыре мотива: корыстные побуждения, личная неприязнь, месть и ревность. Да, Маша! Ревность не пустяк. Она серьёзный мотив. В вашем случае мотивами были именно корысть и ревность.
Камнем преткновения была квартира. Вот эта квартира, в которой мы находимся. Четырёхкомнатная квартира в центре города.
Подумать только! Высокое искусство и какая-то квартира! Но что есть, то есть. Как говорил классик, испортил вас жилищный вопрос… Впрочем, я совсем не удивлён – за долгую работу в органах и не такое видел…
Я слушал ваши рассуждения, теперь вы слушайте мои.
Вот как всё выглядит на первый взгляд.
Павел добивался вас, Анна, не от большой любви. Его интересовала квартира. Женившись, достигнув этой цели, он поставил перед собой следующую – избавиться от законной владелицы. Он рассчитывал свести вас в могилу, воспользовавшись вашей болезнью. Именно этим объясняется его настойчивость в отношении ваших с ним занятий.
Вы это поняли. Видимо, озарение было внезапным. Иначе как объяснить, что вы попытались его убить? Помните, он в больнице лежал? Это ведь не кто-то неизвестный на него напал. Это вы его ударили по голове. Вы это сделали в порыве гнева, спонтанно. Когда же поняли, что натворили, то вытащили его на улицу, чтобы «скорая» забрала от подъезда, и всё выглядело, как нападение неизвестных. Павел тогда выжил, хотя не обошлось без ущерба для его здоровья.
Теперь вы и на развод подать не могли. Вам надо было держать Павла при себе. В любой момент к нему могла вернуться память, он вспомнил бы, как вы на него покушались. Что ему помешало бы это обнародовать? А тогда прощай ваша репутация, а с ней и карьера! К тому же – ваша болезнь, участившиеся припадки. Вы боялись совсем потерять контроль.
Поняв, что оказались в заложниках у проходимца, вы обратились к друзьям. Те согласились вам помочь. Сева давно, с тех пор как вы познакомились, любил вас и ревновал к Павлу. Маша тоже вас любила как сестру, очень вам сочувствовала и ненавидела Павла.
Да. Такая версия у меня была. В ней вы выглядите жертвой негодяя мужа. Вы защищаетесь – это смягчающее обстоятельство.
Но! Меня мучила одна нестыковка… Не тот стиль… Как слабая женщина, жертва, смогла разработать и осуществить такой хитроумный план убийства? Это стиль не жертвы, а, наоборот, так ведёт себя хищник.
Я стал искать корень этого противоречия. Вы сегодня совершили экскурс в ваше прошлое. Я это тоже сделал. Но несколько в ином аспекте. Я искал ваше прошлое не в воспоминаниях, а в документах. Обращался в разные инстанции, в бюро технической инвентаризации и так далее. То, что я узнал, поставило всё на свои места.
Суть в том, Анна, что квартира вам не принадлежит.
Что вы так смотрите на меня, Сева? Вы не знали?
Анна здесь не хозяйка. Квартира не её.
Тот человек купил квартиру для себя и поселил в ней свою любовницу – Анну. После его смерти, по завещанию она отошла его сыну – Павлу. Да-да! Павел сын того человека.
Мать Павла и две его сестры, похоронив главу семьи, уехали в Америку. Сам же Павел остался – он оканчивал театральный институт. С остальными членами семьи у него были сложные отношения. Он даже сменил фамилию – стеснялся родства с отцом бизнесменом, репутация которого была весьма сомнительной. Даже ближайший друг Сева ничего не знал. Однако от наследства отказываться он не стал.
Когда после окончания вуза он вернулся в город и пришёл сюда, в эту квартиру, то встретил вас, Анна. Вы поступили с юношей так же, как и с его отцом – вскружили ему голову.
Вы сегодня говорили, что ваш с Павлом роман был представлением, в котором он был режиссёром, не правда ли? Но нет! То было ваше представление, и его сценаристом и режиссёром были именно вы! А бедный влюблённый юноша… Он не понимал, что в том спектакле лишь играл написанную вами роль.
Всё проходит. И любовь тоже. Вы, Анна, это хорошо понимаете. Видя, что Павел постепенно к вам охладевает, вы решили привязать его к себе ещё крепче. Вы стали внушать ему, что как актёр он бездарен, и только вы способны научить его мастерству. Отсюда и ваши с ним занятия. Была ли в них необходимость, не мне судить – парень был способный, многому мог научиться и сам.
Но и это не помогло. Павел таки понял, что вы водили его за нос. Вероятно, он потребовал, чтобы вы ушли.
Тогда-то вы и попытались его убить в первый раз. Ударили чем-то по голове. Произошло, как в той пьесе, в «Маленьких семейных злодеяниях», – Лиза ударила Жиля по голове, но он не умер, а потерял память. Убить Павла вы не убили, но у него случилась частичная амнезия, и он забыл и о том, как в его ударили, и о своём намерении вас прогнать. Вы же решили довести свой замысел до конца, не дожидаясь, когда он всё вспомнит.
Вам нужны были помощники. Те, кто будут делать чёрную работу.
Вы использовали любящих вас людей. Каждому вы написали свою роль.
Сева, рискуя свободой, должен был дать себя задержать, чтобы завлечь меня на этот спектакль. А роль Маши была написана так, что в случае провала она бы выглядела организатором преступной группы. Она согласилась – ей польстило, что вы сделали её лидером, подняли над собой. Так вы отплатили друзьям за любовь и преданность.
Теперь о том, как вы это сделали. О чём я догадался только сегодня, глядя на вашу игру.
Тогда, после премьеры, в гримёрке, вы тоже разыграли представление.
Павел умер, повторяю, от внутривенного введения смертельного количества хлористого калия. Смерть наступает, как только кровь принесёт хлорид в сердце – через несколько десятков секунд.
Сделать внутривенную инъекцию при всех вы не смогли бы. Значит, тогда в гримёрной, когда всё случилось, Павел был ещё жив. Хоть выглядело, будто он умер именно тогда, когда упал на пол у всех на глазах.
Он упал не потому, что умер, а потому что потерял сознание. По какой причине? Вот это интересно.
Всё началось с постановки «Семейных злодеяний». Зачем она была нужна? Чтобы примирить вас с Павлом. Точнее, чтобы изобразить примирение. Павел, видимо, стал что-то вспоминать. А вам, Анна, надо было отвести от себя подозрение – якобы вы не могли убить Павла, потому что очень его любите.
Но именно вы нанесли ему первый удар.
При первичном осмотре тела судебно-медицинский эксперт заметил на спине под левой лопаткой два небольших пятнышка. Он отметил в протоколе, что это похоже на следы от электрошокера. Тогда мы считали смерть естественной и не придали этому обстоятельству должного значения. Но теперь всё стало на свои места.
Вы, Анна, попросили Павла, чтобы он вас обнял. Он это сделал, закрыв вас он присутствовавших. Вы тоже его обняли. Но в вашей руке теперь был электрошокер, который вы прятали в своей одежде. Обнимая Павла, вы приставили к его спине прибор и нажали на кнопку. От разряда Павел потерял сознание и упал. Затем упали вы – у вас случился припадок, который был единственным правдивым элементом всего представления. Падая, вы сумели спрятать электрошокер. Как? Неважно. Скорее всего, он оказался под вами. Сева и Маша стояли за спиной Павла, закрывая собой вашу руку с шокером.
Этот шокер и сейчас лежит в ящике стола, где лежал пистолет. Я его видел. Уверен, эксперты подтвердят, что именно он был орудием преступления.
Потом, собственно, и произошло то, о чём раньше я не знал, а узнал лишь сегодня. Случайно. Вы проговорились. Оказывается, когда Павел упал, посторонние быстро покинули гримёрную. Кто сам убежал в ужасе, кого-то Маша послала звонить в «скорую». Вы, Анна, были без сознания. Несколько минут Маша с Севой оставались наедине с Павлом. Думаю, что Маша была у двери, чтобы никто не помешал Севе делать смертельную инъекцию. Так это или нет, мы установим.
Чтобы запутать следствие, вы придумали весь этот спектакль. Вы не догадывались, что самого следствия могло и не быть – слишком хорошо вы всё подготовили.
Вы, Анна, сегодня обмолвились, что вашего любовника-покровителя убили. Это правда. Его убила медсестра в больнице. Поставила обычную капельницу с хлористым калием, но жидкость подала слишком быстро. Не специально – просто отвлеклась. Но его сердце остановилось. Так вы и узнали о смертельных качествах этого вещества.
А знаете, Анна, в чём была ваша первая ошибка? Коробки с лекарствами нумеруют – указывают серию заводской партии. Мы проверили сразу: та коробка, Которую Маша принесли как доказательство вины Севы, была куплена на следующий день после убийства.
Днепр, осень-зима 2017.
Скачать на телефон Купить книгу